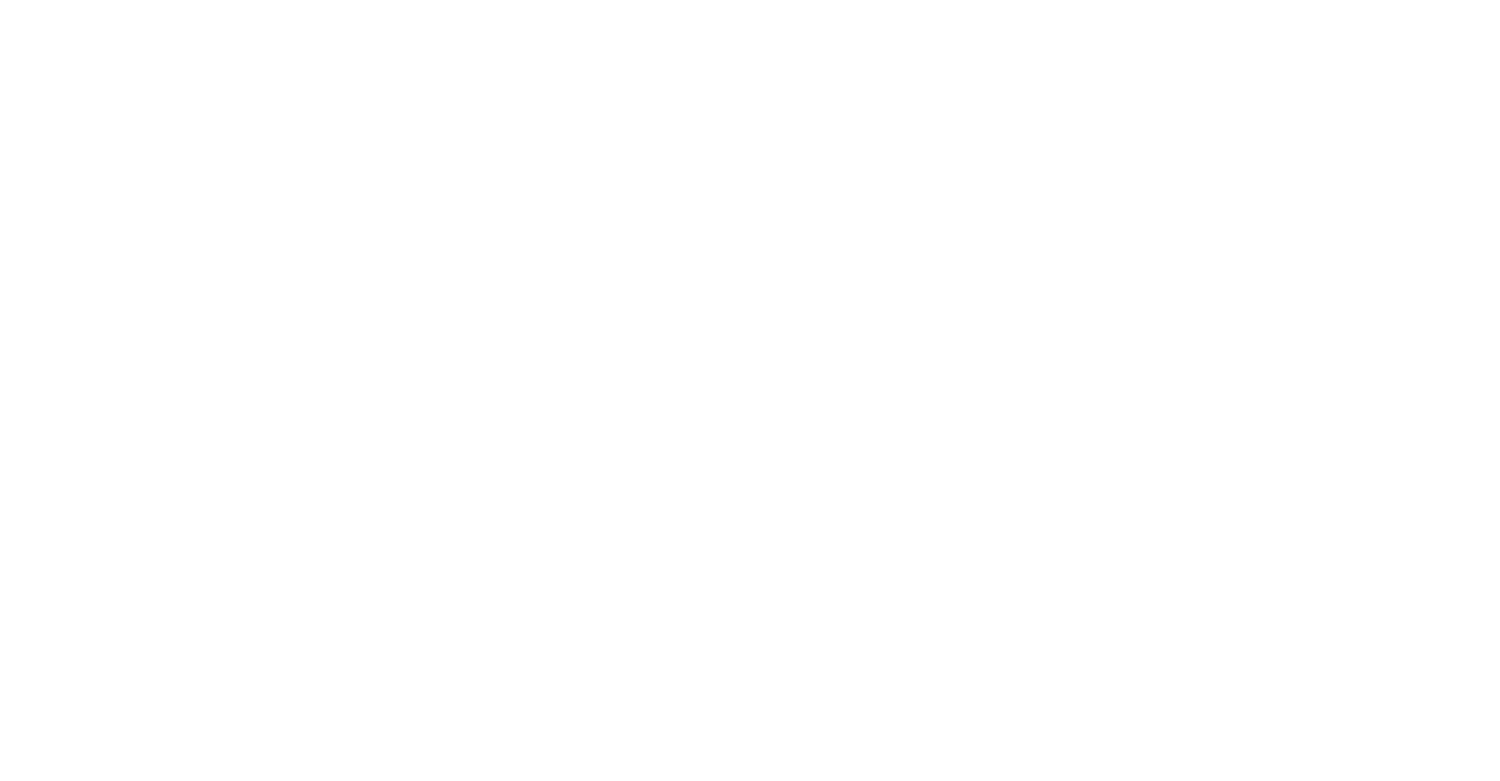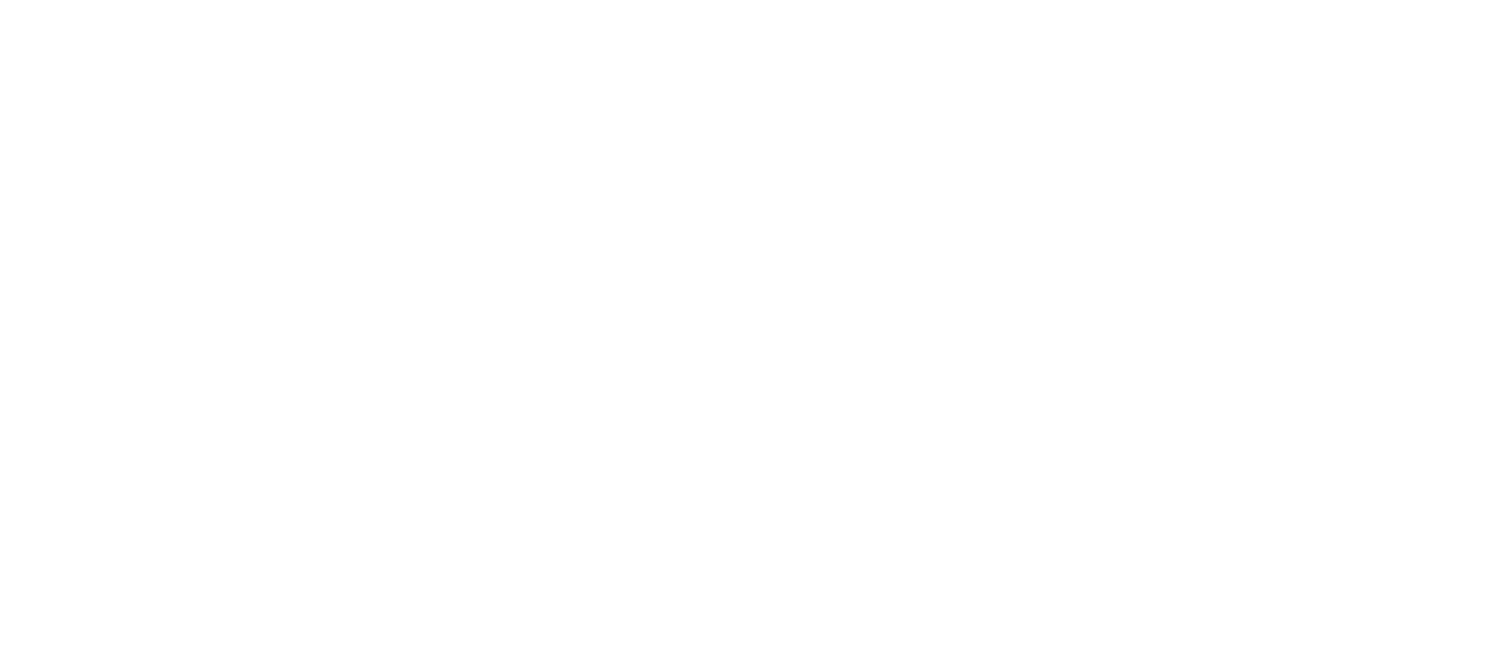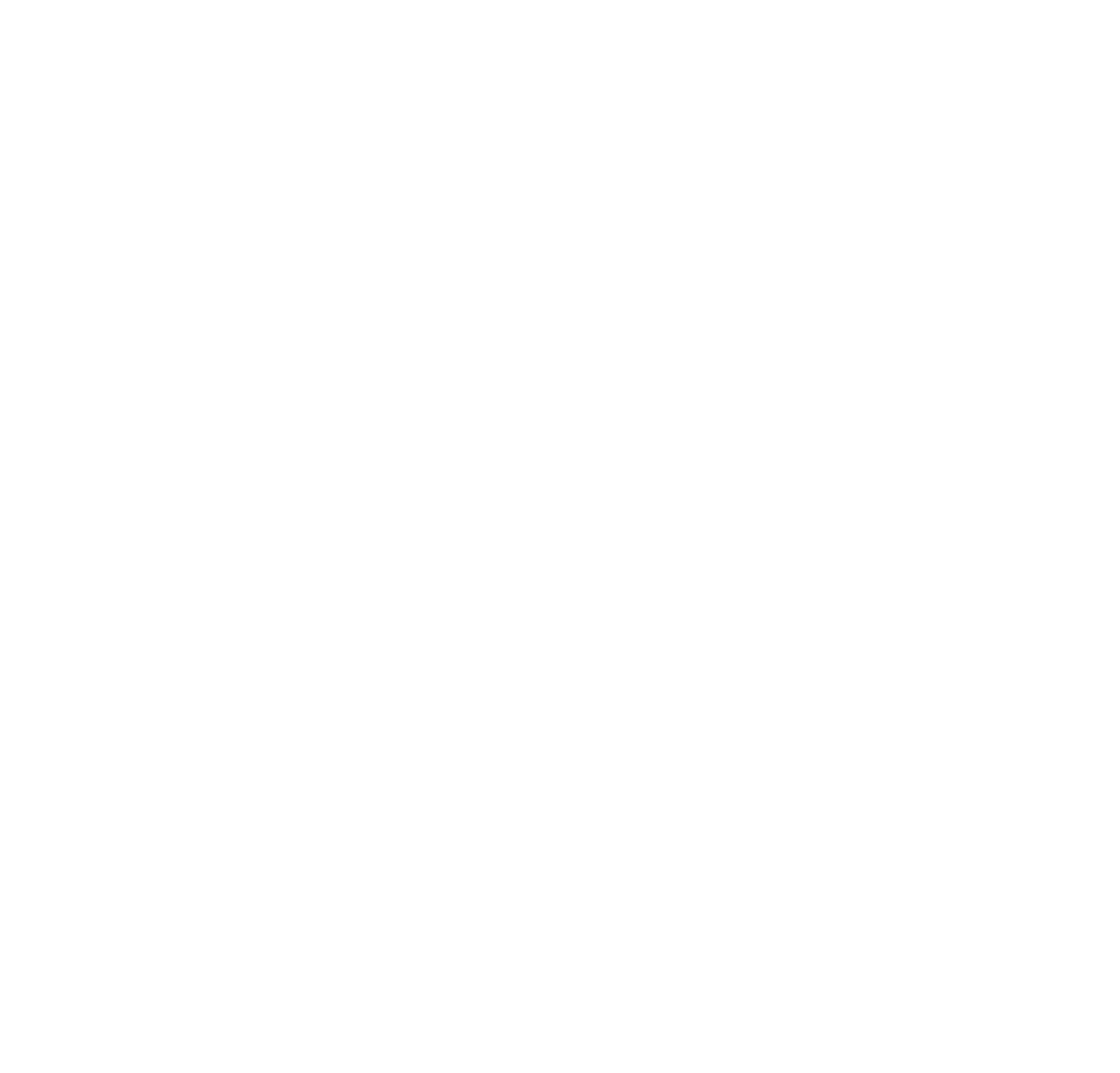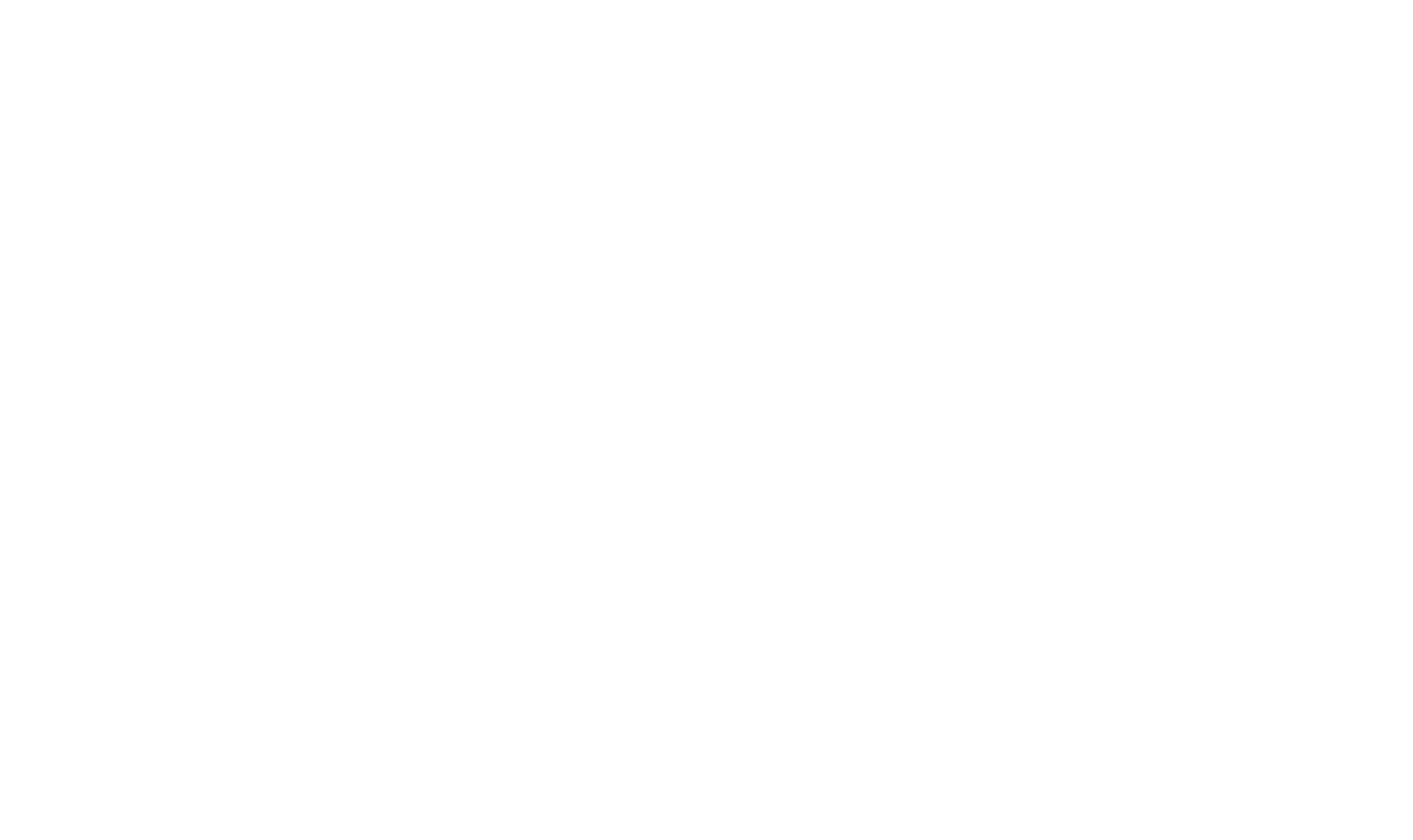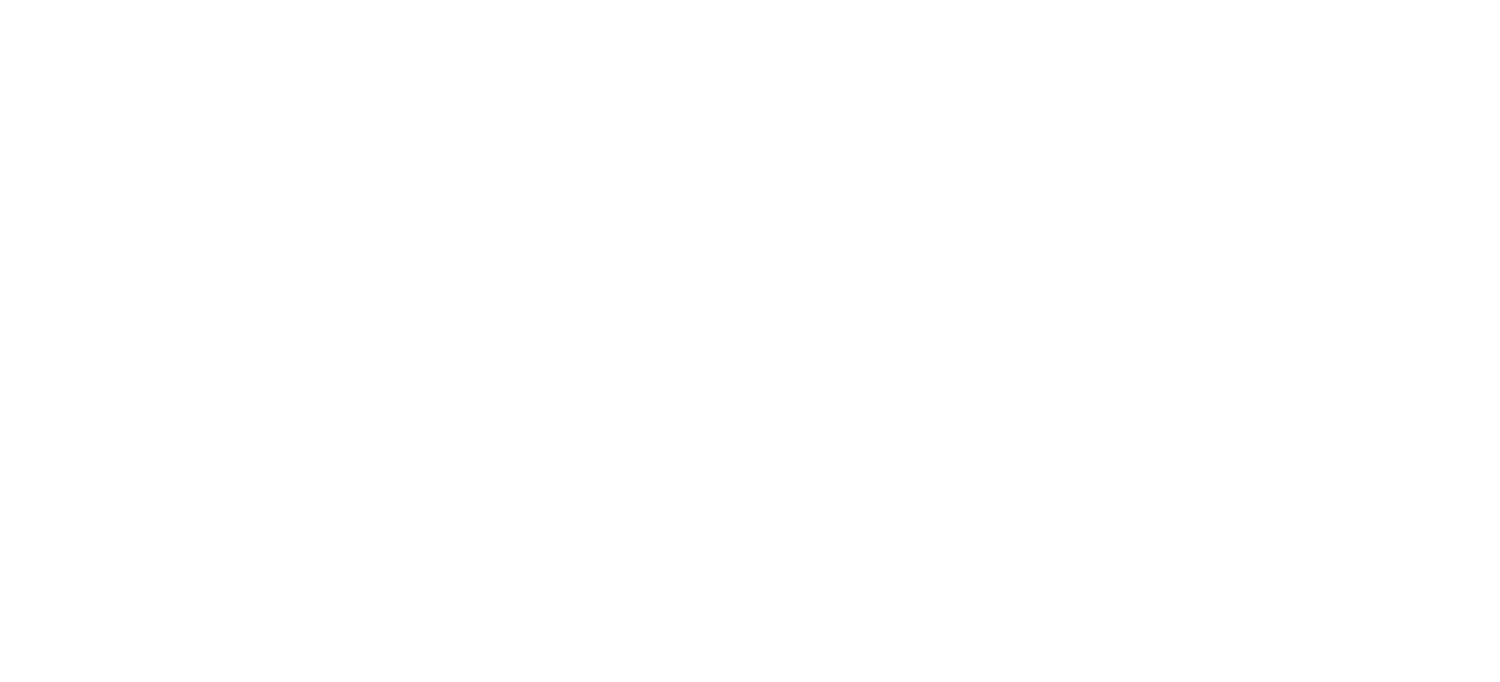Прямо по курсу
ТЕХНОЛОГИИ / #2_2025
Текст: Наталия АНДРЕЕВА / Фото: Governo do Estado de São Paulo, Wikipedia, NASA, Seongnam City Administration, Zipline, XPeng, drones.gov.au, CBP, Unsplash, Dodo Pizza World, Agrodronas
На фото: БПЛА для безопасного и устойчивого внесения средств защиты растений
Несмотря на непрекращающийся поток новостей о военных применениях дронов, глобальное счастье изготовителей БПЛА не в них (это жалкие 15 % от рынков новой аэромобильности), а в гражданских продуктах и сервисах. Попробуем выбраться из информационной пены хайпа и узнать, кто и как развивает дроны для мирных целей.
Словарь
БПЛА — беспилотный летательный аппарат.
Дрон — разговорное название для БПЛА (в английском языке применяется как полный аналог БПЛА, за исключением военной терминологии, где под «дронами» понимаются все беспилотные аппараты, в том числе наземные, подводные и пр.).
eVTOL — пилотируемый электрический летательный аппарат с вертикальными взлетом и посадкой, чаще всего мультироторный; одна из технологических основ концепций «новой аэромобильности» и «новой городской мобильности».
БАС — беспилотная авиационная система (комплекс взаимосвязанных элементов, включающих БПЛА, инфраструктуру и пр.).
Дрон — разговорное название для БПЛА (в английском языке применяется как полный аналог БПЛА, за исключением военной терминологии, где под «дронами» понимаются все беспилотные аппараты, в том числе наземные, подводные и пр.).
eVTOL — пилотируемый электрический летательный аппарат с вертикальными взлетом и посадкой, чаще всего мультироторный; одна из технологических основ концепций «новой аэромобильности» и «новой городской мобильности».
БАС — беспилотная авиационная система (комплекс взаимосвязанных элементов, включающих БПЛА, инфраструктуру и пр.).
Современную глобальную ситуацию с политикой развития БПЛА и беспилотных авиационных систем (БАС) можно смело назвать неоднозначной.
Во-первых, в последние три года на слуху в основном военные применения дронов всех родов и видов; при этом большинство решений, использующихся в ВПК, разрабатываются и производятся гражданским БПЛА-сектором. «Гражданско-военные» технологические перетоки, конечно, очевидны (и не только по части дронов), но на уровне чисто медийной риторики всё застит ВПК, а остальные рынки проходят по категории «а еще, кажется, можно дронами удобрения на поля вносить».
Во-вторых, БПЛА и БАС существуют не в вакууме — как с точки зрения технологий, так и с точки зрения рынков/сервисов: они часть «новой аэромобильности» (Advanced Air Mobility, AAM); а это история гораздо более сложная и дорогая, чем БПЛА.
В-третьих, абсолютным лидером по производству дронов был и остается Китай (DJI и Autel занимают почти 80 % мирового рынка и 80 % рынка США), сделавший ставку на развитие гражданского сектора и, как выясняется, не прогадавший.
Все это привело к тому, что конкуренты Китая, какое-то время назад еще рассчитывавшие на то, что «рынок все сам отрегулирует», начинают активно поддерживать как дрон-индустрию, так и компании в сфере ААМ, причем вкладываются не только и не столько в оборонные технологии, сколько в развитие рынков гражданских продуктов и сервисов, способных «прокормить» большое число компаний и, соответственно, дать на выходе множество новых технологий и продуктовых решений. А если повезет, то технологический дрон-суверенитет на пару с технологическим лидерством.
Этот сценарий, конечно же, не нов: то же происходит с целым рядом других новых/критических для ВПК технологий (ИИ, новые материалы и пр.). Но ситуация с дронами и ААМ — пожалуй, самая показательная: ожидается, что в ближайшие 10 лет глобальные рынки AAM будут расти очень интенсивно. По данным министерства цифровых технологий и транспорта Германии, к 2035 году пассажирские перевозки с использованием ААМ вырастут на 60 %, дрон-перевозки крупных грузов — примерно на 200 %, а дрон-перевозки грузов малых — на 330+%; при этом рынок военных применений технологий AAM, включая БПЛА/БАС, подрастет всего на 10−11 % и к 2035 году составит около 15 % от общего объема ААМ.
И, как водится, ответ на вопрос: «Как с этим жить?» — у каждого свой. ЕС и европейские страны пытаются вырастить хоть каких-то производителей и развить инфраструктуру; США действуют через стандарты, а Китай создает рынки с нуля.
Во-первых, в последние три года на слуху в основном военные применения дронов всех родов и видов; при этом большинство решений, использующихся в ВПК, разрабатываются и производятся гражданским БПЛА-сектором. «Гражданско-военные» технологические перетоки, конечно, очевидны (и не только по части дронов), но на уровне чисто медийной риторики всё застит ВПК, а остальные рынки проходят по категории «а еще, кажется, можно дронами удобрения на поля вносить».
Во-вторых, БПЛА и БАС существуют не в вакууме — как с точки зрения технологий, так и с точки зрения рынков/сервисов: они часть «новой аэромобильности» (Advanced Air Mobility, AAM); а это история гораздо более сложная и дорогая, чем БПЛА.
В-третьих, абсолютным лидером по производству дронов был и остается Китай (DJI и Autel занимают почти 80 % мирового рынка и 80 % рынка США), сделавший ставку на развитие гражданского сектора и, как выясняется, не прогадавший.
Все это привело к тому, что конкуренты Китая, какое-то время назад еще рассчитывавшие на то, что «рынок все сам отрегулирует», начинают активно поддерживать как дрон-индустрию, так и компании в сфере ААМ, причем вкладываются не только и не столько в оборонные технологии, сколько в развитие рынков гражданских продуктов и сервисов, способных «прокормить» большое число компаний и, соответственно, дать на выходе множество новых технологий и продуктовых решений. А если повезет, то технологический дрон-суверенитет на пару с технологическим лидерством.
Этот сценарий, конечно же, не нов: то же происходит с целым рядом других новых/критических для ВПК технологий (ИИ, новые материалы и пр.). Но ситуация с дронами и ААМ — пожалуй, самая показательная: ожидается, что в ближайшие 10 лет глобальные рынки AAM будут расти очень интенсивно. По данным министерства цифровых технологий и транспорта Германии, к 2035 году пассажирские перевозки с использованием ААМ вырастут на 60 %, дрон-перевозки крупных грузов — примерно на 200 %, а дрон-перевозки грузов малых — на 330+%; при этом рынок военных применений технологий AAM, включая БПЛА/БАС, подрастет всего на 10−11 % и к 2035 году составит около 15 % от общего объема ААМ.
И, как водится, ответ на вопрос: «Как с этим жить?» — у каждого свой. ЕС и европейские страны пытаются вырастить хоть каких-то производителей и развить инфраструктуру; США действуют через стандарты, а Китай создает рынки с нуля.
Ожидаемые объемы рынков новой аэромобильности, $ млрд
Различные оценки глобального рынка дронов, $ млрд
ЕС: беспилотные боли
Развитие гражданского рынка дронов и сервисов с их использованием — тема для ЕС не новая: первая рамочная концепция, имеющая отношение к дронам, была принята еще в 2014 году («Новая эра для авиации»); за ней последовали Общеевропейская стратегия развития авиации (2015) и ряд аналогичных инициатив, включая регуляторные (базовые требования к безопасности, 2018; процедуры и правила, связанные с управлением дронами, 2019; правила работы единой цифровой платформы управления U-space, 2020).
К началу 2020‑х годов европейский подход к развитию дронов и связанных с ними рынков заметно трансформировался: дроны и решения для «новой мобильности» рассматриваются как компонент транспортной системы. В частности, в «Стратегии развития устойчивой и умной мобильности» (Sustainable and Smart Mobility Strategy, 2020) дроны — часть мультимодальной логистики, в первую очередь городской, и необходимы, в числе прочего, для решения проблемы последней мили, сильно обострившейся на фоне развития электронной торговли и изменения паттернов потребления.
2022 год внес в политики и программы свои коррективы.
Во-первых, к этому времени стало понятно: регуляторных/нормативных инициатив для развития европейской дрон-индустрии категорически недостаточно. Сейчас в ЕС сосредоточено порядка 40 % компаний — производителей БПЛА/БАС мира. При этом из заметных на глобальном уровне (читай: на фоне Китая) игроков в ЕС представлена только французская Parrot; остальные европейские производители проходят по категории «статистическая погрешность». Между тем Еврокомиссия ожидает, что рынок гражданских сервисов в ближайшие годы будет расти в среднем на 12,3 % в год и к 2030 году составит € 14,5 млрд. Где взять компании, которые будут поставлять дронов для этих сервисов, — вопрос открытый.
Развитие гражданского рынка дронов и сервисов с их использованием — тема для ЕС не новая: первая рамочная концепция, имеющая отношение к дронам, была принята еще в 2014 году («Новая эра для авиации»); за ней последовали Общеевропейская стратегия развития авиации (2015) и ряд аналогичных инициатив, включая регуляторные (базовые требования к безопасности, 2018; процедуры и правила, связанные с управлением дронами, 2019; правила работы единой цифровой платформы управления U-space, 2020).
К началу 2020‑х годов европейский подход к развитию дронов и связанных с ними рынков заметно трансформировался: дроны и решения для «новой мобильности» рассматриваются как компонент транспортной системы. В частности, в «Стратегии развития устойчивой и умной мобильности» (Sustainable and Smart Mobility Strategy, 2020) дроны — часть мультимодальной логистики, в первую очередь городской, и необходимы, в числе прочего, для решения проблемы последней мили, сильно обострившейся на фоне развития электронной торговли и изменения паттернов потребления.
2022 год внес в политики и программы свои коррективы.
Во-первых, к этому времени стало понятно: регуляторных/нормативных инициатив для развития европейской дрон-индустрии категорически недостаточно. Сейчас в ЕС сосредоточено порядка 40 % компаний — производителей БПЛА/БАС мира. При этом из заметных на глобальном уровне (читай: на фоне Китая) игроков в ЕС представлена только французская Parrot; остальные европейские производители проходят по категории «статистическая погрешность». Между тем Еврокомиссия ожидает, что рынок гражданских сервисов в ближайшие годы будет расти в среднем на 12,3 % в год и к 2030 году составит € 14,5 млрд. Где взять компании, которые будут поставлять дронов для этих сервисов, — вопрос открытый.
Во-вторых, комплексное развитие рынка гражданских применений дронов — основа основ, а 2022 год обострил вопрос нормального взаимодействия гражданского и военного секторов в части развития и взаимных перетоков новых технологий.
Два этих момента и определили конфигурацию Общеевропейской стратегии развития дронов 2.0 (Drone Strategy 2.0, 2022).
(Критические для дрон-индустрии технологические направления европейские коллеги пока определили; но, согласно стратегии, в ближайшее время Еврокомиссия должна принять дорожную карту приоритетных дрон-технологий.)
Что характерно, отдельные страны — члены ЕС исповедуют более приземленный и практичный подход к развитию дронов и дрон-индустрии, чем Еврокомиссия.
Лучший пример — Германия, в 2024 году принявшая стратегию развития «передовой воздушной мобильности» (Advanced-Air-Mobility Strategie).
В отличие от общеевропейской стратегии, выступающей за развитие чуть менее чем всего разом (наука, инновации, технологии, стартапы, крупные производители, маршруты и пр.), Германия планирует сконцентрироваться на развитии инфраструктур по принципу «у вас может быть сколько угодно производителей дронов и eVTOL, но без нормальной связи и дронопортов все равно никто никуда не полетит».
Два этих момента и определили конфигурацию Общеевропейской стратегии развития дронов 2.0 (Drone Strategy 2.0, 2022).
- Стратегия предполагает [относительно] комплексное финансирование развития дрон-индустрии (включая смежные технологии «новой мобильности» вроде eVTOL): профильные R&D и стартапы предполагается спонсировать по линии общеевропейской научно-технологической программы Horizon Europe (направления «Глобальные вызовы и конкурентоспособность европейской промышленности» и «Европейский совет по инновациям»); масштабирование дрон-производств — через фонд InvestEU (в основном за счет предоставления банковских гарантий); специализированные военные разработки — через Европейский фонд обороны (European Defence Fund, EDF).
- Одно из основных направлений поддержки развития дрон-индустрии — разработка и производство дронов для военных применений; в частности, планируется выделить отдельные линейки финансирования для «дронов двойного применения» в рамках Horizon Europe и других общеевропейских инструментов; создать сеть «гражданско-военных» тестировочных полигонов для дронов; согласовать/синхронизировать процессы сертификации для гражданских и оборонных дронов и пр.
(Критические для дрон-индустрии технологические направления европейские коллеги пока определили; но, согласно стратегии, в ближайшее время Еврокомиссия должна принять дорожную карту приоритетных дрон-технологий.)
Что характерно, отдельные страны — члены ЕС исповедуют более приземленный и практичный подход к развитию дронов и дрон-индустрии, чем Еврокомиссия.
Лучший пример — Германия, в 2024 году принявшая стратегию развития «передовой воздушной мобильности» (Advanced-Air-Mobility Strategie).
В отличие от общеевропейской стратегии, выступающей за развитие чуть менее чем всего разом (наука, инновации, технологии, стартапы, крупные производители, маршруты и пр.), Германия планирует сконцентрироваться на развитии инфраструктур по принципу «у вас может быть сколько угодно производителей дронов и eVTOL, но без нормальной связи и дронопортов все равно никто никуда не полетит».
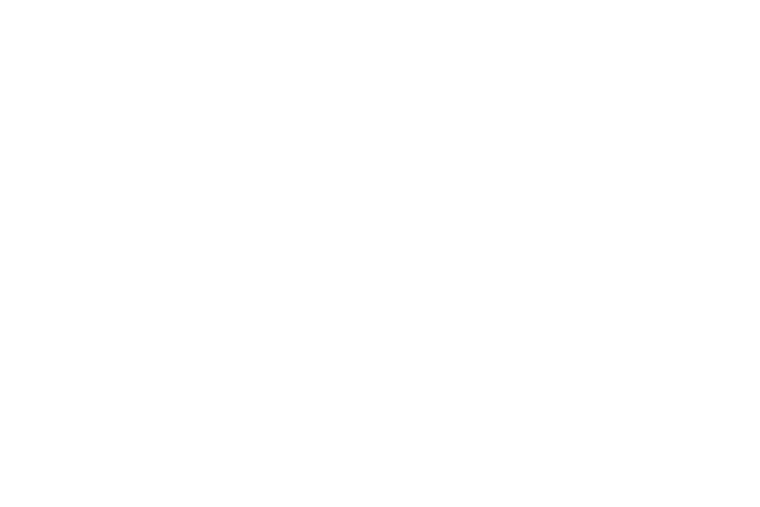
План взлетно-посадочной площадки проекта НАСА Advanced Air Mobility (AAM)
Поэтому в рамках германской стратегии развития ААМ предполагается:
1. Создать:
2. Профинансировать серию R&D, связанных с развитием инфраструктур ААМ (в том числе по линии специализированного государственного фонда технологий новой мобильности — mFUND):
3. Сформировать полноценную систему подготовки пилотов и операторов дронов (в соответствии с общеевропейскими стандартами).
С учетом того, что с производителями БПЛА в ЕС напряженка, а на Германию приходится больше 40 % лицензированных операторов дронов ЕС (690 тыс. из 1,67 млн), это, конечно, заявка на победу.
1. Создать:
- тестовые маршруты ААМ (к 2026 году); сформировать (в том числе нормативно/законодательно) «тестовые зоны», в которых eVTOL и дроны смогут одновременно использовать воздушное пространство (к 2028 году);
- системы региональных сервисов новой мобильности (к 2030 году);
- полноценный национальный рынок сервисов ААМ (к 2032 году);
- сеть «вертипортов» — хабов, которые позволят органично включить eVTOL и дроны в транспортную систему, в том числе для обеспечения мультимодальности пассажирских и грузовых перевозок с использованием технологий ААМ;
- единую систему управления трафиком для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов (ATM/UTM), в том числе с использованием ИИ.
2. Профинансировать серию R&D, связанных с развитием инфраструктур ААМ (в том числе по линии специализированного государственного фонда технологий новой мобильности — mFUND):
- технологии для безопасной интеграции eVTOL и дронов в существующие транспортные инфраструктуры;
- отдельные элементы инфраструктуры для eVTOL (зарядные станции и пр.);
- интегрированные системы управления пилотируемыми и беспилотными аппаратами;
- разработку решений для коммуникационных/цифровых инфраструктур ААМ;
- технологии для снижения шума и экологически небезопасных выбросов;
- системы обеспечения безопасности;
- энергоэффективность;
- автоматизированные системы управления;
3. Сформировать полноценную систему подготовки пилотов и операторов дронов (в соответствии с общеевропейскими стандартами).
С учетом того, что с производителями БПЛА в ЕС напряженка, а на Германию приходится больше 40 % лицензированных операторов дронов ЕС (690 тыс. из 1,67 млн), это, конечно, заявка на победу.
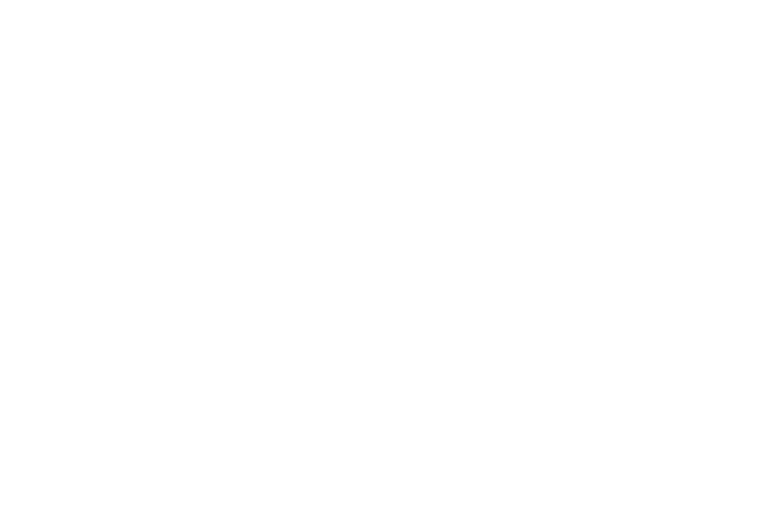
Дрон-дезинфектор
США: стандартизируй это
В отличие от ЕС, США мало озабочены развитием рынков БПЛА и прочих узких решений в сфере новой мобильности. С целью адресной поддержки дрон-индустрии в стране реализуются две достаточно скромные программы: программа поддержки тестовых полигонов для БПЛА/БАС (с 2012 года) и грантовая поддержка апробации точечных решений, технологий и сервисов с использованием БАС (с 2017 года), обе — под эгидой Федерального управления гражданской авиации США.
Основное направление «федеральной» работы — гораздо более широкое и включает БПЛА /БАС.
Речь, конечно же, идет о поддержке развития «новой/передовой воздушной мобильности» как элемента транспортной системы, в первую очередь городской (Urban Air Mobility). При этом американским коллегам приходится работать со специфическим набором проблем: США и без «новой воздушной мобильности» — одна из наиболее «аэронасыщенных» стран мира, со сверхразвитой системой воздушных перевозок и соответствующей инфраструктурой; поэтому большинство узких мест для развития БПЛА/БАС/eVTOL в США находятся в сфере стандартов и регулирования, а не технологий и рынков.
В отличие от ЕС, США мало озабочены развитием рынков БПЛА и прочих узких решений в сфере новой мобильности. С целью адресной поддержки дрон-индустрии в стране реализуются две достаточно скромные программы: программа поддержки тестовых полигонов для БПЛА/БАС (с 2012 года) и грантовая поддержка апробации точечных решений, технологий и сервисов с использованием БАС (с 2017 года), обе — под эгидой Федерального управления гражданской авиации США.
Основное направление «федеральной» работы — гораздо более широкое и включает БПЛА /БАС.
Речь, конечно же, идет о поддержке развития «новой/передовой воздушной мобильности» как элемента транспортной системы, в первую очередь городской (Urban Air Mobility). При этом американским коллегам приходится работать со специфическим набором проблем: США и без «новой воздушной мобильности» — одна из наиболее «аэронасыщенных» стран мира, со сверхразвитой системой воздушных перевозок и соответствующей инфраструктурой; поэтому большинство узких мест для развития БПЛА/БАС/eVTOL в США находятся в сфере стандартов и регулирования, а не технологий и рынков.
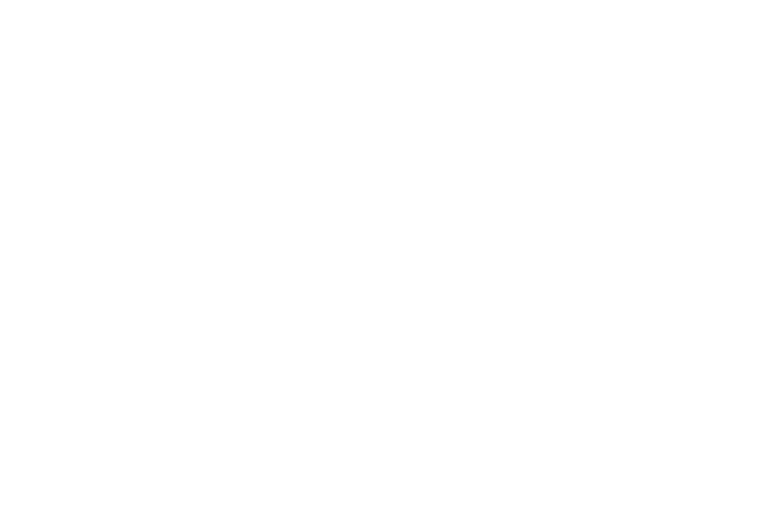
Сервис беспилотной доставки жизненно важных лекарств в Гане
В 2023 году были приняты три основополагающих документа Федерального управления гражданской авиации США, [рамочно] определивших цели, задачи и направления развития «новой мобильности».
Строго говоря, попытка заняться технологической составляющей «новой мобильности», включая технологии для дронов, уже была: в 2023 году в Конгресс США был внесен проект комплексной научно-технологической программы развития «новой мобильности» (National Drone and Advanced Air Mobility Research and Development Act), предполагавшей ряд масштабных и осмысленных мероприятий, начиная с реализации портфеля долгосрочных «стратегических» R&D и заканчивая созданием Национального центра дрон-технологий. Но проект завис в Конгрессе, и его судьба неизвестна; поэтому большинство федеральных R&D-проектов в области ААМ сейчас реализуются на базе NASA.
- Концепция организации «новой городской воздушной мобильности» (Urban Air Mobility Concept of Operations), закрепившая основные определения и концептуальные составляющие воздушной мобильности для городов: принципы развития воздушных коридоров, требования к планированию полетов в пределах этих коридоров, обмен информацией в рамках управления трафиком и пр.
- План развития «новой воздушной мобильности» (Advanced Air Mobility Implementation Plan), определивший требования к сертификации летательных аппаратов, системам управления воздушным трафиком, инфраструктуре (как в части подготовки/адаптации аэродромов к работе с БПЛА/eVTOL, так и в части создания ААМ-хабов с нуля).
- Стандарты создания вертипортов — специализированных взлетно-посадочных площадок для eVTOL и прочих аппаратов вертикального взлета, включая дроны.
Строго говоря, попытка заняться технологической составляющей «новой мобильности», включая технологии для дронов, уже была: в 2023 году в Конгресс США был внесен проект комплексной научно-технологической программы развития «новой мобильности» (National Drone and Advanced Air Mobility Research and Development Act), предполагавшей ряд масштабных и осмысленных мероприятий, начиная с реализации портфеля долгосрочных «стратегических» R&D и заканчивая созданием Национального центра дрон-технологий. Но проект завис в Конгрессе, и его судьба неизвестна; поэтому большинство федеральных R&D-проектов в области ААМ сейчас реализуются на базе NASA.
R&D проекты NASA в области ААМ
- Безопасная интеграция eVTOL и аэротакси в городской воздушный трафик.
- Адаптация систем управления трафиком для нужд ААМ (включая разработку типовых сценариев полетов/предоставления сервисов).
- Поисковые исследования «дальнего горизонта» (поиск идей, способных революционизировать ААМ).
- Портфель технологий, которые позволят расширить спектр ААМ (в том числе перевозка тяжелых грузов, аэротакси и прочие решения на основе систем вертикального взлета).
- Цифровые решения и решения в сфере управления данными для контроля воздушного движения.
- Вычислительные и экспериментальные (натурные) технологии для прогнозирования поведения воздушного судна (в том числе за счет виртуального тестирования).
- Разработка БПЛА и ААМ-решений для круглосуточного мониторинга лесных пожаров.
(Конечно, свой вклад в развитие гражданского рынка дронов в США внесут старые добрые запреты. В 2024 году был принят закон об обеспечении безопасности использования дронов (American Security Drone Act), вступающий в силу в декабре 2025 года и запрещающий закупать и/или использовать любые китайские БПЛА на федеральные деньги. Схожие запреты приняты на уровне некоторых штатов: Арканзаса, Флориды, Невады, Техаса и пр. Судя по всему, ослабления этих ограничений в обозримом будущем не предвидится.)
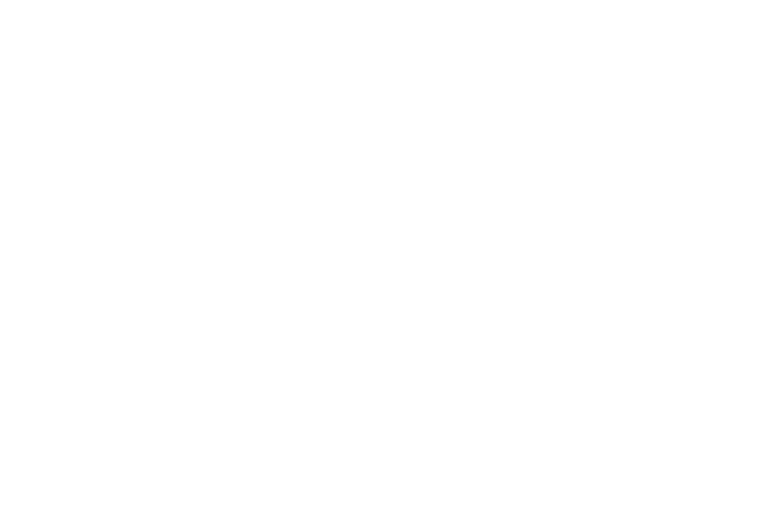
«Летающий автомобиль» XPeng X2 — первый eVTOL, получивший разрешение на полеты в Китае
Китай: большие малые высоты
КНР, как и следовало ожидать, использует диаметрально противоположный подход, а именно политику «полного цикла», охватывающую чуть более чем все аспекты развития, причем не БПЛА как таковых, а всего рынка «воздушных» сервисов на высотах до 1 км («экономики малых высот"/low altitude economy).
КНР, как и следовало ожидать, использует диаметрально противоположный подход, а именно политику «полного цикла», охватывающую чуть более чем все аспекты развития, причем не БПЛА как таковых, а всего рынка «воздушных» сервисов на высотах до 1 км («экономики малых высот"/low altitude economy).
Китай: развитие «экономики малых высот»
2020
Администрация гражданской авиации (CAAC) утвердила планы создания 13 национальных «экспериментальных зон» развития авиации, две из которых специализировались на БПЛА-логистике и три — на дрон-системах для служб доставки в городах.
2021
«Экономика малых высот» включена в общенациональный план развития транспортных инфраструктур.
2022
CAAC создала семь дополнительных экспериментальных зон для [малых] гражданских летательных аппаратов с целью тестирования и сертификации БПЛА и eVTOL.
2023
Приняты концепции, стратегии и планы развития «экономики малых высот» в 16 провинциях (пилотные проекты); утверждены временные правила организации управления подготовкой и выполнением полетов на высотах до 1 км; введен экспортный контроль ключевых БПЛА-технологий и технологий «малых высот» (двигатели, системы передачи данных, радары, РЭБ и пр.).
2024
Развитие «экономики малых высот» зафиксировано в качестве одного из экономических приоритетов (решением 3‑го пленума ЦК КПК 20‑го созыва); при Государственном комитете КНР по развитию и реформам создан Департамент развития «экономики малых высот»; министерство промышленности и информационных технологий выделило несколько линеек финансирования для развития БПЛА и летательных аппаратов в целом; 180+ китайских компаний-производителей сформировали профильную Ассоциацию «экономики малых высот» (China Low Altitude Economic Alliance), в том числе для реализации совместных проектов развития инфраструктуры; Китай запретил своим компаниям взаимодействовать с рядом американских производителей дронов (Firestorm Labs, Kratos Unmanned Aerial Systems и др.).
2025
Заявлен первый консорциальный проект (National Low Аltitude Transportation Network; 30+ компаний) создания инфраструктуры управления полетами на малых высотах (дроны, малые пилотируемые летательные аппараты и пр.), включающей системы мониторинга погодных условий, связь, эффективные системы управления, наземные инфраструктуры и пр.
В целом, конечно, развитие «экономики малых высот» — наглядная демонстрация чисто китайского подхода к развитию технологий и высокотехнологичных продуктов.
Во-первых, в основе политики — опережающее регулирование: все нормативно-правовые акты, необходимые для нормального функционирования компаний/сервисов, были приняты одновременно с разнообразными планами поддержки. Например, базовые правила управления полетами на малых высотах были приняты в 2023 году — перед началом реализации пилотных проектов (и даже до того, как в стране появилось ведомство, ответственное за развитие «экономики малых высот»).
Во-вторых, как и во многих других случаях, китайская политика развития «экономики малых высот» строится как эксперимент: к 2023 году профильные пилотные проекты были инициированы в 16 провинциях, использующих различные наборы инструментов и механизмов для поддержки ее развития, причем на уровне не только провинций, но и муниципалитетов.
Во-первых, в основе политики — опережающее регулирование: все нормативно-правовые акты, необходимые для нормального функционирования компаний/сервисов, были приняты одновременно с разнообразными планами поддержки. Например, базовые правила управления полетами на малых высотах были приняты в 2023 году — перед началом реализации пилотных проектов (и даже до того, как в стране появилось ведомство, ответственное за развитие «экономики малых высот»).
Во-вторых, как и во многих других случаях, китайская политика развития «экономики малых высот» строится как эксперимент: к 2023 году профильные пилотные проекты были инициированы в 16 провинциях, использующих различные наборы инструментов и механизмов для поддержки ее развития, причем на уровне не только провинций, но и муниципалитетов.
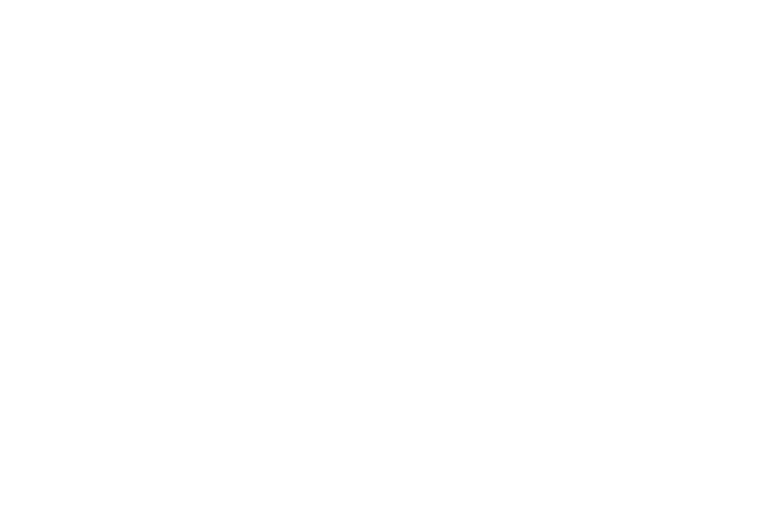
Световое шоу с использованием дронов
В-третьих, политика развития «экономики малых высот» комплексная и разработана строго «от нужд рынка»:
И в‑четвертых, политика развития «экономики малых высот» реализуется сразу на трех уровнях: общестрановом (регулирование, государственные инвестиционные фонды, программы научно-технологического развития и пр.), провинциальном (стратегии и программы развития инфраструктур, разработка локальных маршрутов/сценариев использования и пр.) и городском (планы/программы развития рынков в городах, разработанные с учетом локальных рыночных реалий).
- в «экономику малых высот» включены не только БПЛА/дроны, но и все виды летательных аппаратов, (потенциально) нужных для развития линейки продуктов и услуг, в первую очередь малые VTOL, включая eVTOL, для городской мобильности;
- проектирование политик/мер поддержки основано на трех основных компонентах: а) рыночные/продуктовые сценарии использования технологий; б) развитие инфраструктуры, необходимой для нормального предоставления сервисов; в) поддержка индустрии (ОЕМ-производители, производители компонентов, операторы БАС-инфраструктур и пр.).
И в‑четвертых, политика развития «экономики малых высот» реализуется сразу на трех уровнях: общестрановом (регулирование, государственные инвестиционные фонды, программы научно-технологического развития и пр.), провинциальном (стратегии и программы развития инфраструктур, разработка локальных маршрутов/сценариев использования и пр.) и городском (планы/программы развития рынков в городах, разработанные с учетом локальных рыночных реалий).
Китай: локальная экономика малых высот
Провинция Гуандун («План развития „экономики малых высот“ на 2024−2026 годы», 2024): создание системы подготовки и выполнения полетов на малых высотах для гражданских и военных БПЛА; комплексное развитие наземной инфраструктуры: взлетно-посадочных площадок, зарядных и метеорологических станций и пр. (в том числе в рамках «Единого плана развития аэропортов на 2020−2035 годы»); цифровая система мониторинга на основе 3D-модели городов (CIM); разработка региональных стандартов и протоколов; создание профильных промышленных парков.
Гуанчжоу («План мероприятий по развитию „экономики малых высот“ на 2024−2027 годы»): развитие наземной инфраструктуры (100+ взлетно-посадочных площадок к 2027 году); 12 целевых сценариев использования БПЛА (туризм, аэротакси и пр.); специализированный региональный инвестиционный фонд (инвестиции в предприятия «экономики малых высот»); субсидирование сертификации новых БПЛА (до $ 2 млн).
Шэньчжэн («План мероприятий по развитию „экономики малых высот“»): грантовая поддержка новых предприятий в сфере БПЛА (компании-пользователи, ОЕМ-производители и производители компонентов, R&D и пр.); субсидирование а) проектов внедрения БПЛА/eVTOL в деятельность компаний, б) проектов создания низковысотных маршрутов доставки, в) лицензирования и сертификации новых БПЛА.
Чжухай («План развития „экономики малых высот“»): субсидирование предприятий-производителей (до 20 % стоимости производственного оборудования; до $ 1,4 млн на сертификацию); создание тестировочных полигонов для БПЛА (+ грантовая поддержка летных испытаний — до 30 % стоимости); субсидирование создания и развития новых воздушных маршрутов (в том числе летного часа для компаний, предоставляющих БПЛА-сервисы) и пр.
Гуанчжоу («План мероприятий по развитию „экономики малых высот“ на 2024−2027 годы»): развитие наземной инфраструктуры (100+ взлетно-посадочных площадок к 2027 году); 12 целевых сценариев использования БПЛА (туризм, аэротакси и пр.); специализированный региональный инвестиционный фонд (инвестиции в предприятия «экономики малых высот»); субсидирование сертификации новых БПЛА (до $ 2 млн).
Шэньчжэн («План мероприятий по развитию „экономики малых высот“»): грантовая поддержка новых предприятий в сфере БПЛА (компании-пользователи, ОЕМ-производители и производители компонентов, R&D и пр.); субсидирование а) проектов внедрения БПЛА/eVTOL в деятельность компаний, б) проектов создания низковысотных маршрутов доставки, в) лицензирования и сертификации новых БПЛА.
Чжухай («План развития „экономики малых высот“»): субсидирование предприятий-производителей (до 20 % стоимости производственного оборудования; до $ 1,4 млн на сертификацию); создание тестировочных полигонов для БПЛА (+ грантовая поддержка летных испытаний — до 30 % стоимости); субсидирование создания и развития новых воздушных маршрутов (в том числе летного часа для компаний, предоставляющих БПЛА-сервисы) и пр.
Понятно, что развитие идет не без проблем.
Во-первых, есть масса инфраструктурных сложностей, главная из которых — нехватка аэропортов. В 2024 году в Китае действовало 449 аэропортов общего назначения (ср.: в США — без малого 20 тыс.); при этом в «экономике малых высот» задействовано не более 30 % воздушного пространства, и говорить об эффективном его освоении пока не приходится. Помимо физической инфраструктуры, есть вопросы к ИКТ-обеспечению воздушного движения: существующие системы обнаружения, связи и пр. не позволяют нормально управлять низковысотным трафиком (именно поэтому в базе многих региональных программ развития — создание ИКТ-инфраструктур, которые позволят выстроить систему управления им).
Во-вторых, не решен ряд технологических проблем, в частности, связанных с разработкой и производством современных авиадвигателей и систем авионики (по большому количеству позиций Китай пока зависит от импорта), а также с электробатареями нужной емкости (по некоторым оценкам, для массовых городских авиаперевозок плотность энергии батареи должна составлять порядка 400 кВт/кг; при ее этом средняя плотность не превышает 285 кВт/кг — для массовых и масштабированных решений).
В-третьих, несмотря на принятые в 2023 году правила организации управления полетами на малых высотах, процедуры, связанные с вылетами, остаются громоздкими (нет общестранового канала для согласования планов вылета; много времени занимают согласование вылета и оформление отчетов и т. д.).
Но несмотря на все проблемы, промежуточные итоги политики развития «экономики малых высот» впечатляют:
Во-первых, есть масса инфраструктурных сложностей, главная из которых — нехватка аэропортов. В 2024 году в Китае действовало 449 аэропортов общего назначения (ср.: в США — без малого 20 тыс.); при этом в «экономике малых высот» задействовано не более 30 % воздушного пространства, и говорить об эффективном его освоении пока не приходится. Помимо физической инфраструктуры, есть вопросы к ИКТ-обеспечению воздушного движения: существующие системы обнаружения, связи и пр. не позволяют нормально управлять низковысотным трафиком (именно поэтому в базе многих региональных программ развития — создание ИКТ-инфраструктур, которые позволят выстроить систему управления им).
Во-вторых, не решен ряд технологических проблем, в частности, связанных с разработкой и производством современных авиадвигателей и систем авионики (по большому количеству позиций Китай пока зависит от импорта), а также с электробатареями нужной емкости (по некоторым оценкам, для массовых городских авиаперевозок плотность энергии батареи должна составлять порядка 400 кВт/кг; при ее этом средняя плотность не превышает 285 кВт/кг — для массовых и масштабированных решений).
В-третьих, несмотря на принятые в 2023 году правила организации управления полетами на малых высотах, процедуры, связанные с вылетами, остаются громоздкими (нет общестранового канала для согласования планов вылета; много времени занимают согласование вылета и оформление отчетов и т. д.).
Но несмотря на все проблемы, промежуточные итоги политики развития «экономики малых высот» впечатляют:
- локальные политики и планы развития «экономики малых высот» приняты и реализуются в 29 регионах (провинциях, автономных округах и пр.);
- за первую половину 2024 года в стране было зарегистрировано более 600 тыс. новых дронов и eVTOL (+48 % к 1,1 млн, имевшимся в 2023 году, по данным Администрации гражданской авиации Китая);
- только за первый (2022) год поддержки венчурные фонды вложили в профильные компании $ 1,38 млрд (10+ млрд юаней);
- в конце 2024 года в сфере «экономики малых высот» работало 50+ тыс. предприятий (из них около 19 тыс. — разработчики и производители дронов и компонентов);
- лицензии на управление дронами/БПЛА в 2024 году получили 40+ тыс. человек (+23 % к уровню 2022 года);
- ожидается, что к 2026 году объем рынков «экономики малых высот» в Китае достигнет $ 130 млрд (1 трлн юаней), к 2030 году — $ 270 млрд (2 трлн юаней), а к 2035 году — $ 480 млрд (3,5 трлн юаней).
Взболтать, но не смешивать
Попробуем выйти на обобщение. Идеальная политика достижения «технологического лидерства» в сфере БПЛА/ БАС должна строиться на пяти основных принципах.
1. Продуктовая логика: опора [преимущественно] на спрос (компании, эксплуатирующие дроны и предоставляющие сервисы на их основе), способный выдать условное техническое задание на ТТХ дронов и оплатить отраслевые решения/продукты, подтвердив их адекватность с точки зрения экономики, технологий и пр.
2. Ориентация на сложную корпоративную структуру производства и использования дронов, включающую крупных производителей (в том числе работающих на глобальный рынок), поставщиков компонентов, стартапы, компании, предоставляющие сервисы с использованием дронов/ААМ, и пр.
(Требование сложности — это, конечно, опционально: как можно заметить на примере Китая, для того чтобы прокормить 17+ тыс. компаний — эксплуатантов БПЛА и успешно интегрировать в экономику 1,7 млн гражданских дронов, нужно иметь 1+ млрд населения и ВВП порядка $ 20 трлн.)
3. Обеспечение бесшовной интеграции дронов (или ААМ в целом) в национальную транспортную систему на уровне инфраструктур (например, логистических/грузовых хабов, приспособленных для работы с БПЛА и прочими ААМ-решениями) и регулирования.
4. Глубокая кастомизация/локализация политики — до уровня городов и с ориентацией на структуру их экономики (продукты, сервисы и инфраструктуры проектируются локально, в зависимости от спроса на дроны и сервисы на данной конкретной территории).
5. Синхронизация политики развития гражданских рынков/сервисов с рацио национальной безопасности: в логике эффективного поглощения гражданских технологий военно-промышленным комплексом (как это происходит в США) или по принципу софинансирования военных дронов по условно-гражданским линиям (ЕС), понимая при этом, что основной фактор успеха — это все-таки кипящий и активный гражданский сектор.
Попробуем выйти на обобщение. Идеальная политика достижения «технологического лидерства» в сфере БПЛА/ БАС должна строиться на пяти основных принципах.
1. Продуктовая логика: опора [преимущественно] на спрос (компании, эксплуатирующие дроны и предоставляющие сервисы на их основе), способный выдать условное техническое задание на ТТХ дронов и оплатить отраслевые решения/продукты, подтвердив их адекватность с точки зрения экономики, технологий и пр.
2. Ориентация на сложную корпоративную структуру производства и использования дронов, включающую крупных производителей (в том числе работающих на глобальный рынок), поставщиков компонентов, стартапы, компании, предоставляющие сервисы с использованием дронов/ААМ, и пр.
(Требование сложности — это, конечно, опционально: как можно заметить на примере Китая, для того чтобы прокормить 17+ тыс. компаний — эксплуатантов БПЛА и успешно интегрировать в экономику 1,7 млн гражданских дронов, нужно иметь 1+ млрд населения и ВВП порядка $ 20 трлн.)
3. Обеспечение бесшовной интеграции дронов (или ААМ в целом) в национальную транспортную систему на уровне инфраструктур (например, логистических/грузовых хабов, приспособленных для работы с БПЛА и прочими ААМ-решениями) и регулирования.
4. Глубокая кастомизация/локализация политики — до уровня городов и с ориентацией на структуру их экономики (продукты, сервисы и инфраструктуры проектируются локально, в зависимости от спроса на дроны и сервисы на данной конкретной территории).
5. Синхронизация политики развития гражданских рынков/сервисов с рацио национальной безопасности: в логике эффективного поглощения гражданских технологий военно-промышленным комплексом (как это происходит в США) или по принципу софинансирования военных дронов по условно-гражданским линиям (ЕС), понимая при этом, что основной фактор успеха — это все-таки кипящий и активный гражданский сектор.
БПЛА и ВПК в США и ЕС
Дрон-инициативы министерства обороны США
Программа Replicator ($ 1 млрд; с 2023 года), предполагающая закупку «малых, умных и дешевых» дронов всех родов и видов (авиа, наземных, наводных, подводных, мультисредовых); МО заключило 30+ контрактов на разработку, производство и поставку харда, софта и дрон-систем. Вторая фаза программы (Replicator 2; с 2025 года) будет концентрироваться на системах противодействия малым БПЛА, в том числе в рамках общеминистерской стратегии противодействия всем «беспилотным» угрозам (Strategy for Countering Unmanned Systems, 2024).
Программа Blue UAS (под эгидой Управления оборонных инноваций) поиска и закупки коммерческих (гражданских) дронов, соответствующих требованиям кибербезопасности и иным ТТХ.
Общеармейская программа закупки и тестирования малых квадрокоптеров и БПЛА-систем, в рамках которой в 2025 году планируется закупить 540 коптеров различных конструкций/конфигураций (на $ 20+ млн) для их адаптации к широкому спектру задач.
Программа Командования специальными операциями США по закупке и самостоятельной доработке «коробочных» решений в малых беспилотных системах для достижения различных целей; в рамках программы, в числе прочего, активно тестируются ИИ/МО решения для обеспечения частичной и/или полной автономности (навигация, преодоление препятствий, автоматическое определение целей и пр.).
Оборонные дрон-инициативы в ЕС
Европейская стратегия развития оборонной промышленности (European Defence Industrial Strategy, 2024): общее развитие дрон-индустрии, включая поддержку стартапов, развитие технологий двойного назначения и пр.
Финансирование исследований и разработок БПЛА/БАС по линии Европейского фонда обороны: ряд крупных проектов (например, Eurodrone, осуществляющийся с 2015 года и получивший в 2021 году € 100 млн), программа создания и развития средств РЭБ и прочих «противодроновых» систем (2023), общая программа поддержки разработки/производства дронов всех родов и видов (2024, € 200 млн) и программа поддержки создания «дронов-камикадзе» (2025, € 50 млн).
Программа Replicator ($ 1 млрд; с 2023 года), предполагающая закупку «малых, умных и дешевых» дронов всех родов и видов (авиа, наземных, наводных, подводных, мультисредовых); МО заключило 30+ контрактов на разработку, производство и поставку харда, софта и дрон-систем. Вторая фаза программы (Replicator 2; с 2025 года) будет концентрироваться на системах противодействия малым БПЛА, в том числе в рамках общеминистерской стратегии противодействия всем «беспилотным» угрозам (Strategy for Countering Unmanned Systems, 2024).
Программа Blue UAS (под эгидой Управления оборонных инноваций) поиска и закупки коммерческих (гражданских) дронов, соответствующих требованиям кибербезопасности и иным ТТХ.
Общеармейская программа закупки и тестирования малых квадрокоптеров и БПЛА-систем, в рамках которой в 2025 году планируется закупить 540 коптеров различных конструкций/конфигураций (на $ 20+ млн) для их адаптации к широкому спектру задач.
Программа Командования специальными операциями США по закупке и самостоятельной доработке «коробочных» решений в малых беспилотных системах для достижения различных целей; в рамках программы, в числе прочего, активно тестируются ИИ/МО решения для обеспечения частичной и/или полной автономности (навигация, преодоление препятствий, автоматическое определение целей и пр.).
Оборонные дрон-инициативы в ЕС
Европейская стратегия развития оборонной промышленности (European Defence Industrial Strategy, 2024): общее развитие дрон-индустрии, включая поддержку стартапов, развитие технологий двойного назначения и пр.
Финансирование исследований и разработок БПЛА/БАС по линии Европейского фонда обороны: ряд крупных проектов (например, Eurodrone, осуществляющийся с 2015 года и получивший в 2021 году € 100 млн), программа создания и развития средств РЭБ и прочих «противодроновых» систем (2023), общая программа поддержки разработки/производства дронов всех родов и видов (2024, € 200 млн) и программа поддержки создания «дронов-камикадзе» (2025, € 50 млн).
Россия в дрон-политике
Цели российской политики в части развития рынка гражданских дронов заметно отличаются от заявляемых/достигаемых целей стран — мировых лидеров.
С финансовой точки зрения, национальный проект «Беспилотные авиационные системы» — основной инструмент развития дрон-индустрии — ориентирован на поддержку разработчиков и производителей дронов и их компонентов/подсистем, а также на развитие инфраструктур (61 % финансирования на 2024−2030 годы). К 2030 году планируется довести объем производства отечественных гражданских БАС до 32,5 тыс. (с 11,67 тыс. в 2024‑м) и создать 290 посадочных площадок для БАС (с инфраструктурой наземного и технического обслуживания), а также оснастить 290 районов полетов БАС необходимой информационно-коммуникационной инфраструктурой.
(Полное отсутствие в повестке «новой аэромобильности» можно списать на эффект колеи: исторически сложилось так, что малая авиация в России чувствует себя не очень хорошо.)
Цели российской политики в части развития рынка гражданских дронов заметно отличаются от заявляемых/достигаемых целей стран — мировых лидеров.
С финансовой точки зрения, национальный проект «Беспилотные авиационные системы» — основной инструмент развития дрон-индустрии — ориентирован на поддержку разработчиков и производителей дронов и их компонентов/подсистем, а также на развитие инфраструктур (61 % финансирования на 2024−2030 годы). К 2030 году планируется довести объем производства отечественных гражданских БАС до 32,5 тыс. (с 11,67 тыс. в 2024‑м) и создать 290 посадочных площадок для БАС (с инфраструктурой наземного и технического обслуживания), а также оснастить 290 районов полетов БАС необходимой информационно-коммуникационной инфраструктурой.
(Полное отсутствие в повестке «новой аэромобильности» можно списать на эффект колеи: исторически сложилось так, что малая авиация в России чувствует себя не очень хорошо.)
Основные направления поддержки БАС в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», млрд руб.
При этом продуктово-сервисная логика, положенная в основу политики развития дрон-индустрии в Китае (и без того лидирующем на глобальном рынке), в российские меры поддержки пока не интегрирована.
Хорошая новость: НП «БАС» предполагает развитие спроса: около 35 % финансирования нацпроекта в 2024—2030 годах должно быть направлено на стимулирование спроса на отечественные БАС — в основном за счет формирования гражданского государственного заказа (ГГЗ) на дроны в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
Плохих новостей несколько.
Первая: даже если забыть о сервисах, перспективы гражданского сектора применения дронов в России не блестящи: по оценкам ассоциации «Аэронекст», в 2024 году на гражданский сектор приходилось не более 12 % российского рынка дронов (около 35 млрд руб.).
Да, потенциал насыщения гражданских рынков дронами в России еще довольно велик, даже если сделать [мысленную] поправку на численность населения, структуру экономики, возможные типы востребованных сервисов и пр.: в конце 2024 года по внедрению дронов Россия отставала от Китая в 1,5 раза, от США — в 3,7 раза (по гражданским дронам в целом; по коммерческим — в 5 раз).
Хорошая новость: НП «БАС» предполагает развитие спроса: около 35 % финансирования нацпроекта в 2024—2030 годах должно быть направлено на стимулирование спроса на отечественные БАС — в основном за счет формирования гражданского государственного заказа (ГГЗ) на дроны в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».
Плохих новостей несколько.
Первая: даже если забыть о сервисах, перспективы гражданского сектора применения дронов в России не блестящи: по оценкам ассоциации «Аэронекст», в 2024 году на гражданский сектор приходилось не более 12 % российского рынка дронов (около 35 млрд руб.).
Да, потенциал насыщения гражданских рынков дронами в России еще довольно велик, даже если сделать [мысленную] поправку на численность населения, структуру экономики, возможные типы востребованных сервисов и пр.: в конце 2024 года по внедрению дронов Россия отставала от Китая в 1,5 раза, от США — в 3,7 раза (по гражданским дронам в целом; по коммерческим — в 5 раз).
Количество зарегистрированных гражданских дронов, тыс.; уровень их проникновения, шт. на 1 млн населения
Вторая: несмотря на отдельные примеры успеха, говорить о возникновении в России массового гражданского рынка сервисов с использованием дронов пока нельзя. По данным ассоциации «Аэронекст», разработка, производство и продажа дронов доминируют на рынке как в денежном выражении (58 %), так и в корпоративной структуре (без малого 70 % компаний), в то время как ситуация на глобальном рынке прямо противоположная: на долю производителей дронов приходится только около 20 % рынка.
Отчасти российская ситуация объясняется предпочитаемыми моделями использования дронов: крупные компании, как правило, создают собственные дрон-подразделения и внутренние продукты/сервисы, связанные с мониторингом, аэросъемкой и пр. Но где-то в этом месте и возникает классическое кольцо депрессии: компании не покупают дрон-сервисы, потому что на рынке нет нормальных, адаптированных для нужд конкретной отрасли услуг; на рынке не появляются нормальные сервисы, поскольку на них нет спроса.
Такая модель потребления дронов не плоха и не хороша — она просто отражает сложившиеся корпоративные практики; но с точки зрения долгосрочной перспективы и проникновения дронов в малый и средний бизнес может повториться ситуация со сложным производственным ПО: крупные госкорпорации разрабатывают всё инхауз, а и без того немногочисленные ПО-вендоры не в состоянии доработать отечественные решения из-за нехватки денег и сомнительных рыночных перспектив сложного ПО на фоне внутрикорпоративных разработок.
Отчасти российская ситуация объясняется предпочитаемыми моделями использования дронов: крупные компании, как правило, создают собственные дрон-подразделения и внутренние продукты/сервисы, связанные с мониторингом, аэросъемкой и пр. Но где-то в этом месте и возникает классическое кольцо депрессии: компании не покупают дрон-сервисы, потому что на рынке нет нормальных, адаптированных для нужд конкретной отрасли услуг; на рынке не появляются нормальные сервисы, поскольку на них нет спроса.
Такая модель потребления дронов не плоха и не хороша — она просто отражает сложившиеся корпоративные практики; но с точки зрения долгосрочной перспективы и проникновения дронов в малый и средний бизнес может повториться ситуация со сложным производственным ПО: крупные госкорпорации разрабатывают всё инхауз, а и без того немногочисленные ПО-вендоры не в состоянии доработать отечественные решения из-за нехватки денег и сомнительных рыночных перспектив сложного ПО на фоне внутрикорпоративных разработок.
Структура рынка гражданских дронов, производство, сервисы, %
Необходимость переориентации, как минимум, госзаказа с дронов на услуги и сервисы уже более или менее осознана: в ноябре 2024 года Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — базовый заказчик закупки БАС в рамках государственного гражданского заказа — объявила о том, что целесообразно рассмотреть возможность переформатирования ГГЗ с упором на услуги, поскольку реальная поддержка организаций-эксплуатантов в России осуществляется только через субсидирование стоимости летного часа. А если верить данным Минпромторга России, востребованность этой меры поддержки пока невысока (в 2024 году на субсидирование летного часа было подано две заявки, всего на 45 млн руб., при том, что бюджетом было предусмотрено 467 млн).
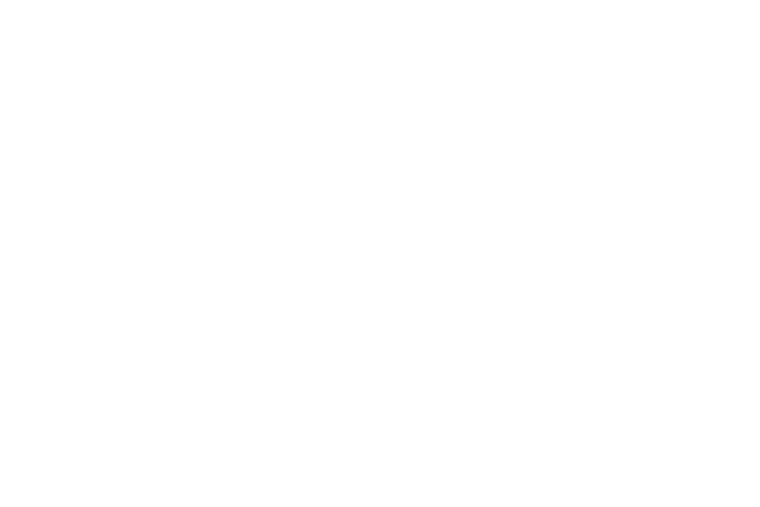
Предполагается, что одним из инструментов для обеспечения «продуктовой/сервисной» ориентации поддержки могут стать типовые отраслевые и межотраслевые сценарии применения БАС (уже разрабатываются ГТЛК), но механизмы, позволяющие объединить сценарии, субсидии и компании, пока не проработаны.
(Косвенно на продукты и сервисы могут работать — и местами уже работают — региональные научно-производственные центры БАС, активно сотрудничающие с организациями — эксплуатантами дронов, но делается это исключительно за счет адекватности команд и их представлений о том, как нужно работать.)
Отсутствие продуктовой логики, конечно, в ближайшие пару лет мало скажется на российской дрон-индустрии: на повестке сейчас более острые вопросы, например, предусмотренные НП «БАС» «сквозные» НИОКР, необходимые для ликвидации ключевых технологических дефицитов и «белых пятен» в области компонентов и подсистем БПЛА/БАС (мощные двухтактные ДВС, высокомоментные электродивигатели, полетные контроллеры, блоки навигации и пр.) и программного обеспечения (решения для программирования БАС, проектирования, диспетчеризации производственных процессов и пр.).
Однако в долгосрочной перспективе «прокормить» БАС как полноценную, технологически суверенную отрасль промышленности — с ОЕМ, производителями компонентов, инжинирингом и R&D — сможет только гражданский рынок. Других рецептов в мире пока нет.
(Косвенно на продукты и сервисы могут работать — и местами уже работают — региональные научно-производственные центры БАС, активно сотрудничающие с организациями — эксплуатантами дронов, но делается это исключительно за счет адекватности команд и их представлений о том, как нужно работать.)
Отсутствие продуктовой логики, конечно, в ближайшие пару лет мало скажется на российской дрон-индустрии: на повестке сейчас более острые вопросы, например, предусмотренные НП «БАС» «сквозные» НИОКР, необходимые для ликвидации ключевых технологических дефицитов и «белых пятен» в области компонентов и подсистем БПЛА/БАС (мощные двухтактные ДВС, высокомоментные электродивигатели, полетные контроллеры, блоки навигации и пр.) и программного обеспечения (решения для программирования БАС, проектирования, диспетчеризации производственных процессов и пр.).
Однако в долгосрочной перспективе «прокормить» БАС как полноценную, технологически суверенную отрасль промышленности — с ОЕМ, производителями компонентов, инжинирингом и R&D — сможет только гражданский рынок. Других рецептов в мире пока нет.
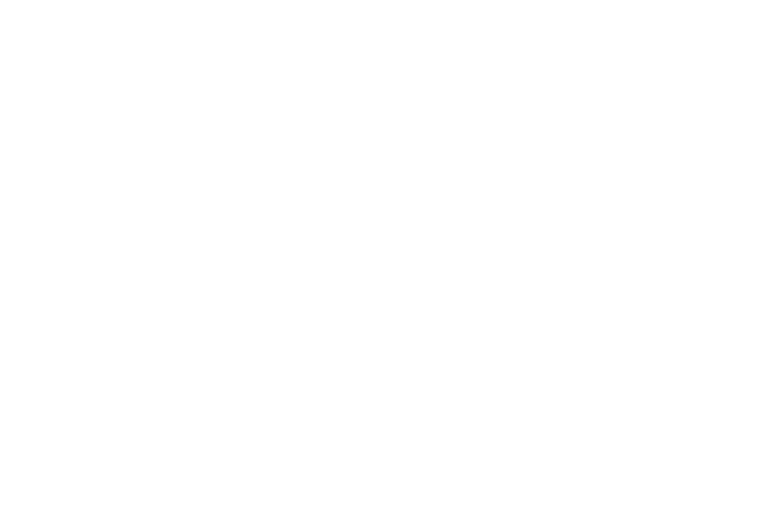
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ