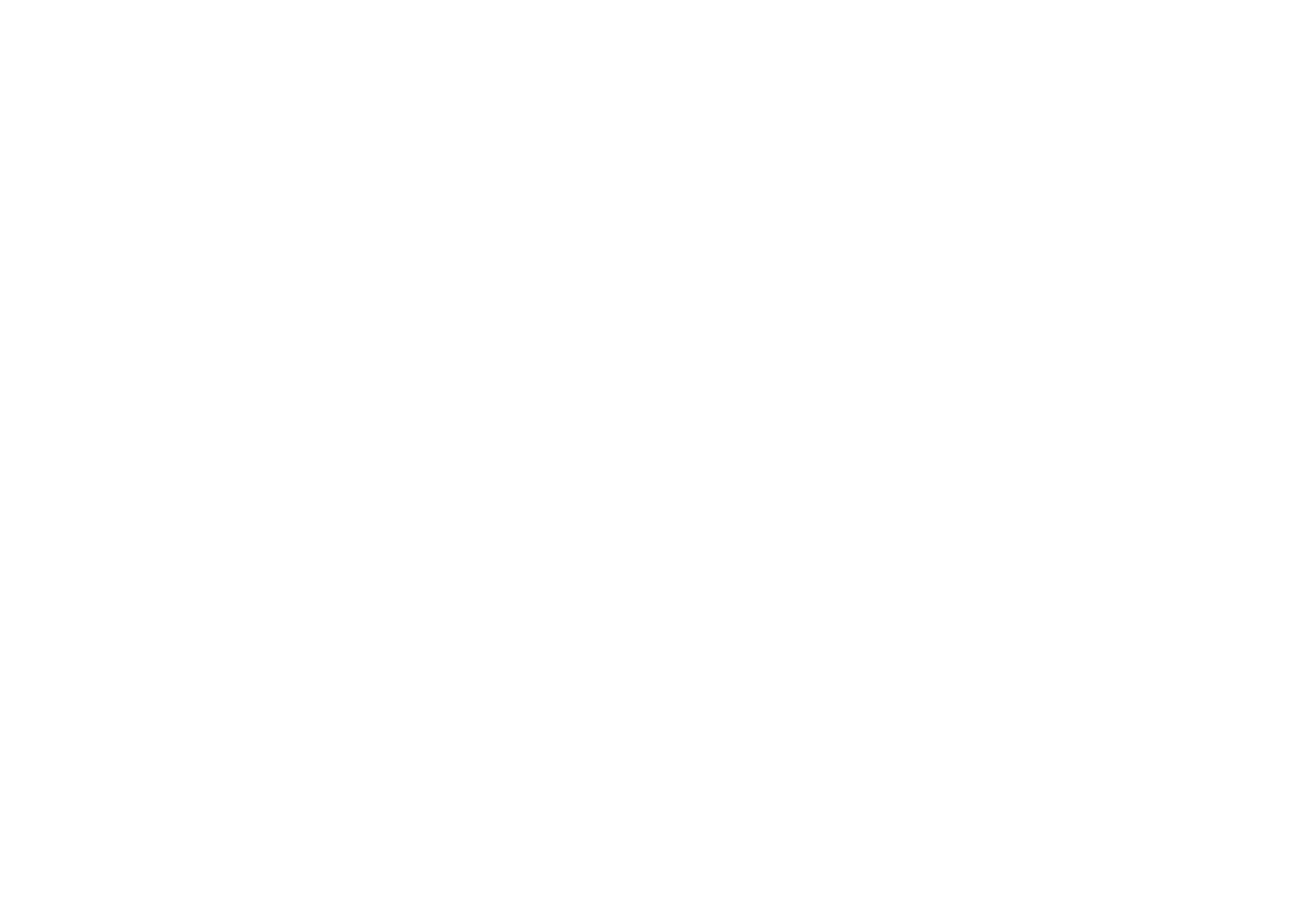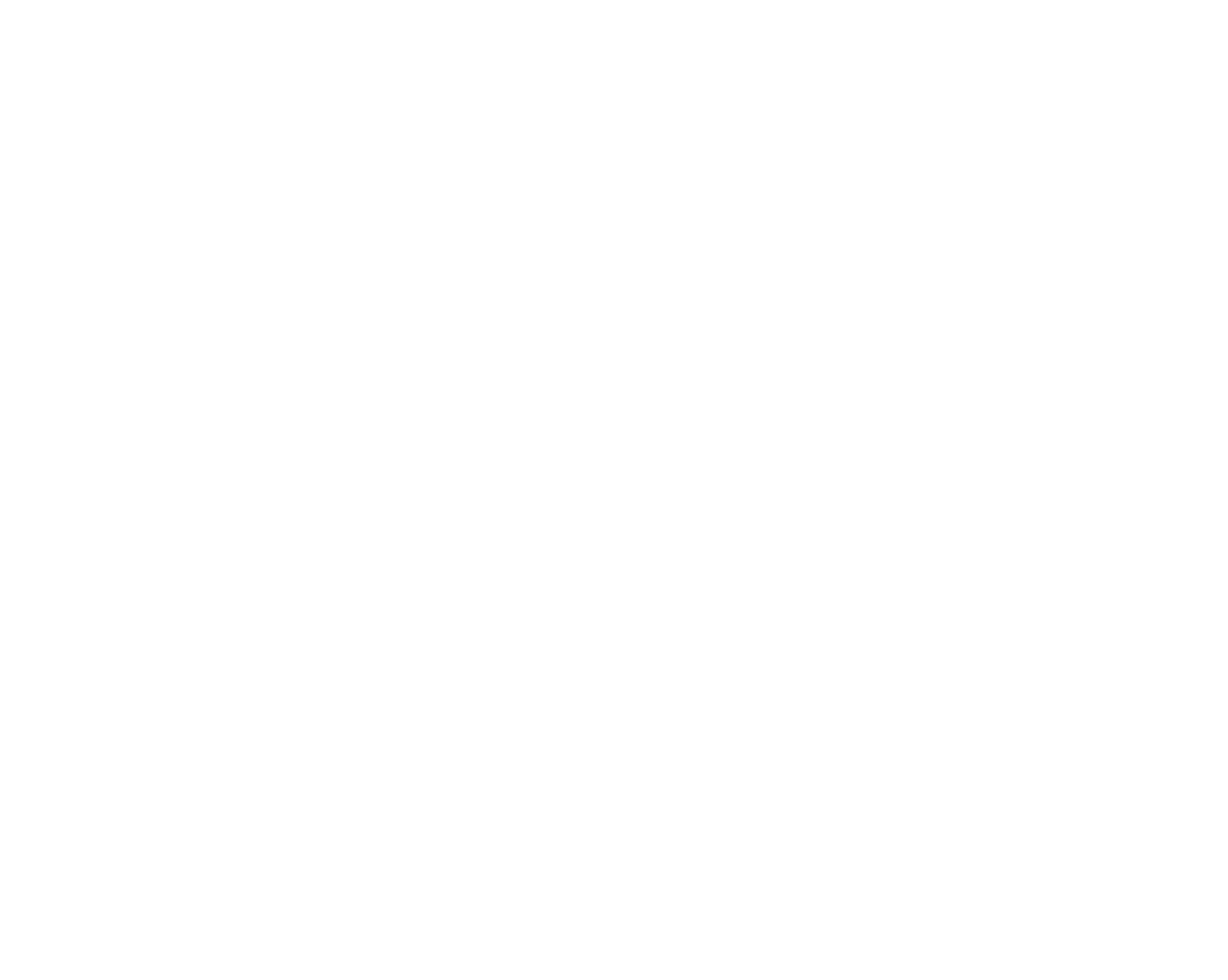Переобуться по-научному: 2024
НАУКА / #1_2025
Текст: Наталия АНДРЕЕВА / Фото: Unsplash, NAS, The Trump White House, CAS, DARPA, Xinhua News
Судя по всему, неспокойный 2024 год оставил для мировых науки и технологий только две константы. Первая: если не считать угрозы перераспределения денег, то политическая ситуация мало влияет на задачи научно-технологического комплекса, а технологический суверенитет по-прежнему важен и нужен. Вторая: гособоронзаказ на R&D неизбежен — и в США, и в Китае, и в Европейском Союзе.
С высоты птичьего полета кажется, что в 2024 году в мировых R&D и инновациях все выглядело так же, как пару лет назад: и в США, и в Китае, и в ЕС, и в других странах есть более или менее одинаковые «критические» (ИИ, кванты, биотехнологии, автономность и пр.) и остальные технологии; есть инфраструктуры, необходимые для поддержки R&D и технологического предпринимательства; есть, наконец, реальный сектор, заинтересованный — или нет — в науке и технологиях.
С точки зрения денег особых перемен тоже нет и не предвидится: больше половины общемирового финансирования науки и технологий дают США (28 %) и Китай (26 %); остальные игроки проходят по категории «статистическая погрешность». Глобальный (и национальный) венчур по-прежнему в коме, хотя общий объем венчурных инвестиций превысил показатели 2023 года, правда, всего на 3 % (с $ 304 млрд до $ 314 млрд) и исключительно за счет бума ИИ-стартапов, на которые пришлось порядка $ 100 млрд финансирования.
С точки зрения денег особых перемен тоже нет и не предвидится: больше половины общемирового финансирования науки и технологий дают США (28 %) и Китай (26 %); остальные игроки проходят по категории «статистическая погрешность». Глобальный (и национальный) венчур по-прежнему в коме, хотя общий объем венчурных инвестиций превысил показатели 2023 года, правда, всего на 3 % (с $ 304 млрд до $ 314 млрд) и исключительно за счет бума ИИ-стартапов, на которые пришлось порядка $ 100 млрд финансирования.
Внутренние затраты на исследования и разработки, % к ВВП
Доля страны в глобальных затратах на R&D, %
Самый заметный сюжет 2024 года — это, конечно же, продолжающиеся технологические (и отчасти научные) войны между США и Китаем.
Очередной виток обсуждений этой темы предсказуемо случился в декабре 2024‑го, после того, как никому не известный китайский ИИ-стартап DeepSeek сделал общедоступными свои суперэффективную LLM V3-Base и чат-модель DeepSeek-V3, обрушив капитализацию производителей продвинутых чипов (привет NVidia) и заодно акций западных околотехнологических компаний. И паника не закончилась: в США звучат призывы в очередной раз ужесточить экспортный контроль над микроэлектроникой всех родов и видов.
Но, как обычно, в сфере науки и технологий есть нюансы, мало заметные на уровне ООН, ОЭСР, глобального капитала, «большой статистики» и передовиц популярных изданий. И основные изменения в 2024 году произошли по двум неочевидным линиям: научно-технологическая политика заметно поменялась, а R&D и инновации [естественным образом] накренились в сторону ВПК.
Очередной виток обсуждений этой темы предсказуемо случился в декабре 2024‑го, после того, как никому не известный китайский ИИ-стартап DeepSeek сделал общедоступными свои суперэффективную LLM V3-Base и чат-модель DeepSeek-V3, обрушив капитализацию производителей продвинутых чипов (привет NVidia) и заодно акций западных околотехнологических компаний. И паника не закончилась: в США звучат призывы в очередной раз ужесточить экспортный контроль над микроэлектроникой всех родов и видов.
Но, как обычно, в сфере науки и технологий есть нюансы, мало заметные на уровне ООН, ОЭСР, глобального капитала, «большой статистики» и передовиц популярных изданий. И основные изменения в 2024 году произошли по двум неочевидным линиям: научно-технологическая политика заметно поменялась, а R&D и инновации [естественным образом] накренились в сторону ВПК.
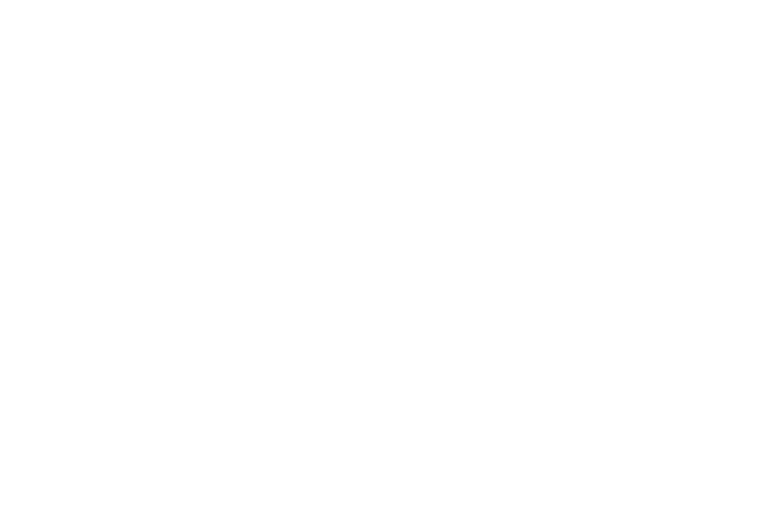
США: глобальное обнуление
Если отвлечься от мировой геополитической шахматной доски, то, с точки зрения государственной политики, веселее всего дела обстоят, конечно же, в США: со сменой президента многое в научно-технологической политике наших американских коллег попросту «обнулилось» — и потому совершенно не важно, что происходило в 2024 году.
За первые две недели после инаугурации 47‑го президента США Дональда Трампа, состоявшейся 20 января 2025 года, новая администрация успела многое сделать на научных и технологических фронтах:
Если отвлечься от мировой геополитической шахматной доски, то, с точки зрения государственной политики, веселее всего дела обстоят, конечно же, в США: со сменой президента многое в научно-технологической политике наших американских коллег попросту «обнулилось» — и потому совершенно не важно, что происходило в 2024 году.
За первые две недели после инаугурации 47‑го президента США Дональда Трампа, состоявшейся 20 января 2025 года, новая администрация успела многое сделать на научных и технологических фронтах:
- заморозила все федеральные гранты (включая около 10 тыс. научных) и займы, так или иначе связанные с «равноправием», «гендерным/расовым разнообразием» и пр. (В результате Национальный научный фонд полностью остановил часть грантовых процессов (в том числе оценку промежуточных итогов и эффективности расходования средств) и начал проверять уже выданные гранты на предмет их соответствия генеральной линии партии. И то, что федеральные судьи приостановили действие распоряжения президента, никому не помогло и не помогает, поскольку финансовые перспективы американской науки на 2025 год по-прежнему туманны.);
- заморозила 80 % финансирования Национального института здравоохранения (группы государственных R&D-центров, на которые приходятся почти все исследования в области медицины, здравоохранения и биотехнологий) — в полном соответствии с объявленными еще в ноябре 2024 года планами по полному его реформированию в случае победы Трампа, а также, для полноты картины, выдвинула на пост главы министерства здравоохранения антиваксера и прекратила членство США в ВОЗ;
- аннулировала так называемую новую зеленую сделку (Green New Deal) — пакет законов и регуляторных инструментов, направленных на борьбу с изменением климата; вывела США из Парижского соглашения (международное соглашение 2015 года о снижении выбросов углекислого газа в атмосферу); и заодно объявила о планах размонтировать федеральную систему поддержки перехода на электромобили.
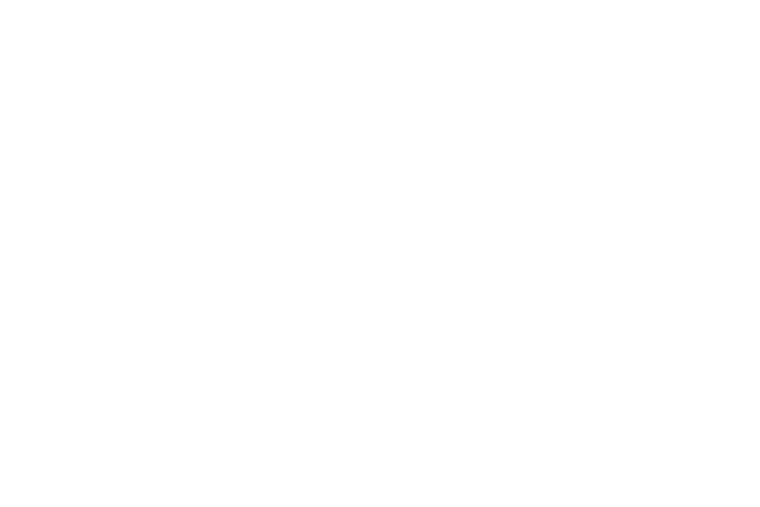
Конференция State of the science 2024
Ожидания от всего этого у американского научного сообщества противоречивые. С одной стороны, все уже поняли, что исследованиям климата и медицине со здравоохранением не поздоровится; с другой, есть надежда на увеличение финансирования всех R&D, связанных с ИИ, квантовыми технологиями и космосом, в том числе в связи с очевидной заинтересованностью крупных корпораций (кто сказал «SpaceX»?..).
Но, несмотря на все политические пертурбации, кое-что фундаментально важное и (потенциально) долгосрочное в 2024 году все же произошло: Академия наук США впервые сформировала полноценное, кооперативное, публичное видение того, как должна развиваться американская наука.
Летом 2024 года президент академии Марша МакНатт выступила с программной речью «О положении науки» (State of the Science), в которой зафиксированы проблемы и задачи американской науки (версия ученых). Что характерно, касаются они не отдельных научно-технологических направлений, а как раз-таки системных вопросов — предмета научно-технологической политики, а также возможной переговорной позиции и отправной точки в диалоге научного сообщества и новой администрации.
Просто потому, что речь идет не о равенстве, правах и affirmative actions, а о системных проблемах и, в конечном итоге, глобальной конкурентоспособности США — Make America great again.
Но, несмотря на все политические пертурбации, кое-что фундаментально важное и (потенциально) долгосрочное в 2024 году все же произошло: Академия наук США впервые сформировала полноценное, кооперативное, публичное видение того, как должна развиваться американская наука.
Летом 2024 года президент академии Марша МакНатт выступила с программной речью «О положении науки» (State of the Science), в которой зафиксированы проблемы и задачи американской науки (версия ученых). Что характерно, касаются они не отдельных научно-технологических направлений, а как раз-таки системных вопросов — предмета научно-технологической политики, а также возможной переговорной позиции и отправной точки в диалоге научного сообщества и новой администрации.
Просто потому, что речь идет не о равенстве, правах и affirmative actions, а о системных проблемах и, в конечном итоге, глобальной конкурентоспособности США — Make America great again.
Основные тезисы доклада «О положении науки» (2024)
Ключевые вызовы для американской науки:
Возможные решения:
- растущая конкуренция, в первую очередь с Китаем: он догоняет США не только по объемам финансирования R&D, но и по количеству публикаций в ведущих научных журналах, заявок на патенты, технологических компаний и пр.;
- высокая зависимость науки и технологий США от иммигрантов: около 40 % занятых в науко- и интеллектуально-емких индустриях — иммигранты в первом поколении; и чем технологичнее отрасль, тем больше эта доля; например, в компьютерных науках половина магистров и постдоков — приезжие;
- низкое качество школьного образования: существующая программа по так называемым STEM-дисциплинам (наука, технологии, инжиниринг, математика) проходит мимо 40 % школьников; иными словами, страна живет за счет качественного образования в других странах;
- высокая доля инвестиций в науку со стороны бизнеса: то, что порядка 75 % средств на науку дает частный сектор, привело, с одной стороны, к резкому падению доверия к науке, с другой — к формированию тематических «колодцев» и низкой оборачиваемости нового знания (коммерческая тайна, проприетарность и пр.);
- проблемы с международной кооперацией: современные научные установки мегакласса — это очень дорого; стране нужны международные проекты, но в условиях геополитического шторма это проблематично.
Возможные решения:
- реформа преподавания STEM-дисциплин в школах, начиная с содержания и заканчивая дидактикой;
- акцент на развитие фундаментальной науки, вплоть до формирования отделов и подразделений, ведущих фундаментальные исследования, во всех [государственных] научных организациях;
- снижение бумажной нагрузки на исследователей (и, соответственно, повышение эффективности инвестиций в R&D); в зависимости от типа гранта и тематического направления, на подготовку отчетности у ученых может уходить до 40 % рабочего времени;
- формирование единой государственной стратегии (или хотя бы четкой позиции) в части развития науки и технологий, в том числе для того, чтобы ускорить движение знания/технологий в цикле «технология — обучение нужным навыкам — развитие — регулирование — инфраструктуры».
Китай: все идет по плану
На фоне шоков, сенсаций и системных проблем США Китай и его научно-технологический комплекс выглядят замечательно.
Помимо очевидных околонаучных и технологических успехов (начиная с лунной миссии Chang’e 6 и заканчивая мобильной операционной системой Huawei HarmonyOS NEXT — ну, и пресловутым DeepSeek), в 2024 году произошли два важных системных/политических изменения в китайской научно-технологической политике, почти не замеченных за пределами страны.
Первое: завершилась организационная реформа Академии наук КНР (Pioneer Initiative, запущенная по поручению Си Цзиньпина еще в 2013 году): 100+ институтов, входящих в контур академии, превратились в организации четырех основных типов. Это научные центры: фундаментальные, прикладные и на базе установок класса мегасайенс; а также специализированные институты, работающие над решением региональных научных и технологических проблем.
В 2024 году была также утверждена масштабная долгосрочная научная программа «Средне- и долгосрочный план развития наук о космосе 2024−2050». Ряд научных направлений будет «распланирован» в 2025 году, поскольку именно на этот год придется основная работа по подготовке общенационального плана на 15‑ю пятилетку (2026−2030).
Второе изменение еще интереснее. В [полном] соответствии с заявленными в 2023 году планами централизации управления НТР и передачи части «научных» бюджетов «ненаучным» министерствам и ведомствам, в 2024 году был обнародован новый подход к финансированию исследований и разработок, критических для развития так называемых индустрий будущего: новых производственных, информационных, космических технологий, передовых материалов, энергетики и медицины.
На фоне шоков, сенсаций и системных проблем США Китай и его научно-технологический комплекс выглядят замечательно.
Помимо очевидных околонаучных и технологических успехов (начиная с лунной миссии Chang’e 6 и заканчивая мобильной операционной системой Huawei HarmonyOS NEXT — ну, и пресловутым DeepSeek), в 2024 году произошли два важных системных/политических изменения в китайской научно-технологической политике, почти не замеченных за пределами страны.
Первое: завершилась организационная реформа Академии наук КНР (Pioneer Initiative, запущенная по поручению Си Цзиньпина еще в 2013 году): 100+ институтов, входящих в контур академии, превратились в организации четырех основных типов. Это научные центры: фундаментальные, прикладные и на базе установок класса мегасайенс; а также специализированные институты, работающие над решением региональных научных и технологических проблем.
В 2024 году была также утверждена масштабная долгосрочная научная программа «Средне- и долгосрочный план развития наук о космосе 2024−2050». Ряд научных направлений будет «распланирован» в 2025 году, поскольку именно на этот год придется основная работа по подготовке общенационального плана на 15‑ю пятилетку (2026−2030).
Второе изменение еще интереснее. В [полном] соответствии с заявленными в 2023 году планами централизации управления НТР и передачи части «научных» бюджетов «ненаучным» министерствам и ведомствам, в 2024 году был обнародован новый подход к финансированию исследований и разработок, критических для развития так называемых индустрий будущего: новых производственных, информационных, космических технологий, передовых материалов, энергетики и медицины.
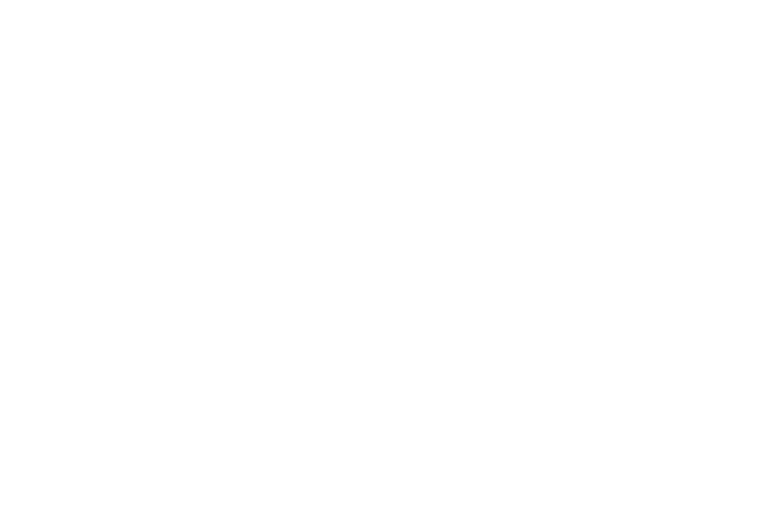
Шанхайское отделение Китайской академии наук
Интересно это по нескольким причинам.
Во-первых, несмотря на регулярные заявления китайского руководства о важности фундаментальной науки, принятый подход к научно-технологическому развитию таков: сначала экономика и добавленная стоимость для потребителей (она же потенциальная прибыль); потом — эффективная система разработки и производства продуктов; и только после этого — ТЗ на технологии/R&D.
Во-вторых, эта политика была разработана и одобрена ключевыми ведомствами, так или иначе связанными с научно-технологическим развитием: министерством промышленности и информационных технологий, министерством образования, министерством науки и технологий, министерством транспорта, Комиссией по управлению государственными активами при Госсовете и Академией наук КНР. Иными словами, это результат управленческого консенсуса и все той же централизации управления наукой и технологиями.
И в‑третьих, судя по времени принятия документа (оптимальному для того, чтобы реализовать в 2025 году пилотные проекты и оценить результаты), именно этот подход — вместе с реформой академии — может лечь в основу научно-технологической политики Китая на 15‑ю пятилетку.
Во-первых, несмотря на регулярные заявления китайского руководства о важности фундаментальной науки, принятый подход к научно-технологическому развитию таков: сначала экономика и добавленная стоимость для потребителей (она же потенциальная прибыль); потом — эффективная система разработки и производства продуктов; и только после этого — ТЗ на технологии/R&D.
Во-вторых, эта политика была разработана и одобрена ключевыми ведомствами, так или иначе связанными с научно-технологическим развитием: министерством промышленности и информационных технологий, министерством образования, министерством науки и технологий, министерством транспорта, Комиссией по управлению государственными активами при Госсовете и Академией наук КНР. Иными словами, это результат управленческого консенсуса и все той же централизации управления наукой и технологиями.
И в‑третьих, судя по времени принятия документа (оптимальному для того, чтобы реализовать в 2025 году пилотные проекты и оценить результаты), именно этот подход — вместе с реформой академии — может лечь в основу научно-технологической политики Китая на 15‑ю пятилетку.
Основные принципы научно-технологического развития «индустрий будущего» в КНР (2024)
- Ориентация на конечные применения технологий. (Ключевая несущая конструкция подхода — так называемые идеальные продукты [задающие общемировую планку]). К концу 2025 года в рамках этого подхода должно быть создано не менее 100 новых продуктов, имеющих отношение к «индустриям будущего», в том числе квантовые компьютеры, новые виды дисплеев, решения в сфере интерфейсов «мозг — компьютер», оборудование для 6G, новые мощные GPU и пр.
- Реализация ключевых проектов в формате научно-технологических и продуктовых консорциумов, возглавляемых крупными предприятиями и включающих представителей университетов, научно-исследовательских центров, региональных администраций, малый и средний бизнес и пр.
- Опора на специализированную инновационную экосистему. (В ближайшее время должен быть разработан и принят общестрановой план развития ключевых крупных предприятий, связанных с «индустриями будущего»; планируется создание специализированных акселераторов и бизнес-инкубаторов для поддержки малых и средних компаний, а также новых научно-исследовательских организаций структур, специализирующихся на разработке нужных технологий.)
- Опережающая «стандартизация»: разработка технологических, потребительских и иных стандартов, необходимых для выпуска соответствующей продукции; в том числе за счет создания зон пилотной апробации технологий и продуктов на их основе.
- Приличное финансовое обеспечение: финансирование профильных R&D, продуктовых разработок и внедренческих проектов по линиям Национальных фондов трансформации и обновления промышленности, развития малых и средних предприятий, а также специальных [кредитных] финансовых инструментов класса «высокотехнологичная промышленность + финансы», в том числе на базе китайских банков развития (The Export-Import Bank of China и др.).
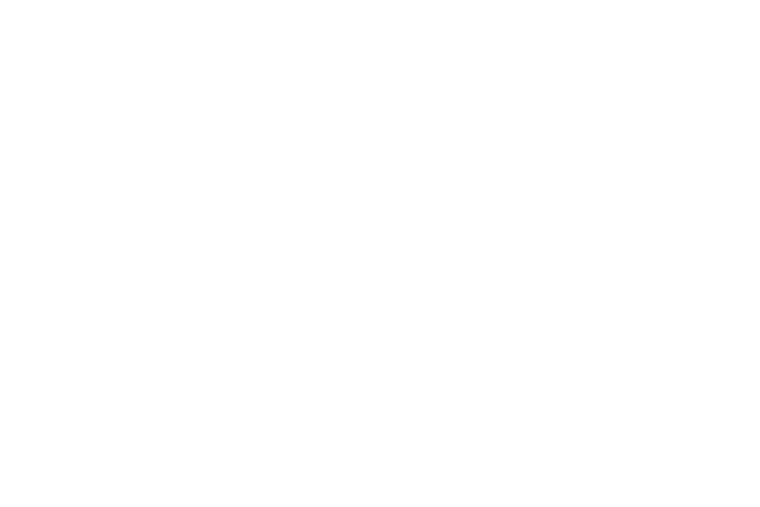
DeepSeek — нейросеть, разработанная китайской компанией, использующая машинное обучение для обработки данных, выявления паттернов и работы с контекстом
ЕС: нужно что-то делать
ЕС рядом с Китаем и США — с точки зрения научно-технологической политики — выглядит, прямо скажем, бледно. В 2024 году это заметила и признала даже Еврокомиссия.
Во-первых, ЕС так и не достиг целевых показателей по финансированию R&D и, шире, инновационных экосистем: доля науки и инноваций в общем ВВП ЕС в 2024 году составила 2,2 % — меньше, чем в США, Японии и Китае. Дефицит финансирования R&D, по мнению Еврокомиссии, — одна из причин экономической стагнации в регионе, поскольку именно из-за недостаточного внимания к науке и инновациям в ЕС так и не появился полноценный bigtech, сравнимый с американским и китайским, в первую очередь в сфере ИКТ. Отсюда же — низкий рост продуктивности в разных индустриях, проблемы со скейлапами и пр.
Во-вторых, нет единой «инновационной экосистемы» Евросоюза: несмотря на многолетние усилия в части «нетворкинга» и координации развития национальных систем поддержки науки и инноваций (в том числе в рамках специализированных общеевропейских инициатив European Semester и European Research Area), к 2024 году ситуация не улучшилась. Более того, она усугубляется закрытостью европейских стран в плане работы с иммигрантами, студентами, релокацией стартапов и пр., особенно по сравнению с более открытыми и привлекательными США, Австралией и Канадой.
И в‑третьих, ЕС «застрял» в так называемой среднетехнологичной зоне (mid-tech) — между высокими и низкими технологиями, особенно в том, что касается ИКТ (и сервисов, и «железа»). Причин тому множество, но главная — дефицит денег, как на разработку современных «глубоких технологий» (deep tech), так и на нормальное масштабирование любых других технологических бизнесов: абсолютным мировым лидером в инвестициях поздних стадий и так называемых венчурных мегараундов остаются США.
На этом фоне задача построения европейского технологического суверенитета и стратегической автономности по части технологий, считающихся критическими для будущего экономического развития (интернет вещей, ИИ и пр.), становится, с одной стороны, насущной, а с другой — совершенно неподъемной.
Основная проблема тут, как и у всех, — недостаточный объем частных инвестиций в R&D; однако конкретные меры пока не предлагаются и не обсуждаются. Привычные инструменты — в первую очередь, налоговые преференции — никому не помогают; дошло до того, что в 2024 году ЕС начал всерьез обсуждать перспективы развития государственного венчура.
Перефразируя классику, главные события для европейских науки и технологий еще впереди.
ЕС рядом с Китаем и США — с точки зрения научно-технологической политики — выглядит, прямо скажем, бледно. В 2024 году это заметила и признала даже Еврокомиссия.
Во-первых, ЕС так и не достиг целевых показателей по финансированию R&D и, шире, инновационных экосистем: доля науки и инноваций в общем ВВП ЕС в 2024 году составила 2,2 % — меньше, чем в США, Японии и Китае. Дефицит финансирования R&D, по мнению Еврокомиссии, — одна из причин экономической стагнации в регионе, поскольку именно из-за недостаточного внимания к науке и инновациям в ЕС так и не появился полноценный bigtech, сравнимый с американским и китайским, в первую очередь в сфере ИКТ. Отсюда же — низкий рост продуктивности в разных индустриях, проблемы со скейлапами и пр.
Во-вторых, нет единой «инновационной экосистемы» Евросоюза: несмотря на многолетние усилия в части «нетворкинга» и координации развития национальных систем поддержки науки и инноваций (в том числе в рамках специализированных общеевропейских инициатив European Semester и European Research Area), к 2024 году ситуация не улучшилась. Более того, она усугубляется закрытостью европейских стран в плане работы с иммигрантами, студентами, релокацией стартапов и пр., особенно по сравнению с более открытыми и привлекательными США, Австралией и Канадой.
И в‑третьих, ЕС «застрял» в так называемой среднетехнологичной зоне (mid-tech) — между высокими и низкими технологиями, особенно в том, что касается ИКТ (и сервисов, и «железа»). Причин тому множество, но главная — дефицит денег, как на разработку современных «глубоких технологий» (deep tech), так и на нормальное масштабирование любых других технологических бизнесов: абсолютным мировым лидером в инвестициях поздних стадий и так называемых венчурных мегараундов остаются США.
На этом фоне задача построения европейского технологического суверенитета и стратегической автономности по части технологий, считающихся критическими для будущего экономического развития (интернет вещей, ИИ и пр.), становится, с одной стороны, насущной, а с другой — совершенно неподъемной.
Основная проблема тут, как и у всех, — недостаточный объем частных инвестиций в R&D; однако конкретные меры пока не предлагаются и не обсуждаются. Привычные инструменты — в первую очередь, налоговые преференции — никому не помогают; дошло до того, что в 2024 году ЕС начал всерьез обсуждать перспективы развития государственного венчура.
Перефразируя классику, главные события для европейских науки и технологий еще впереди.
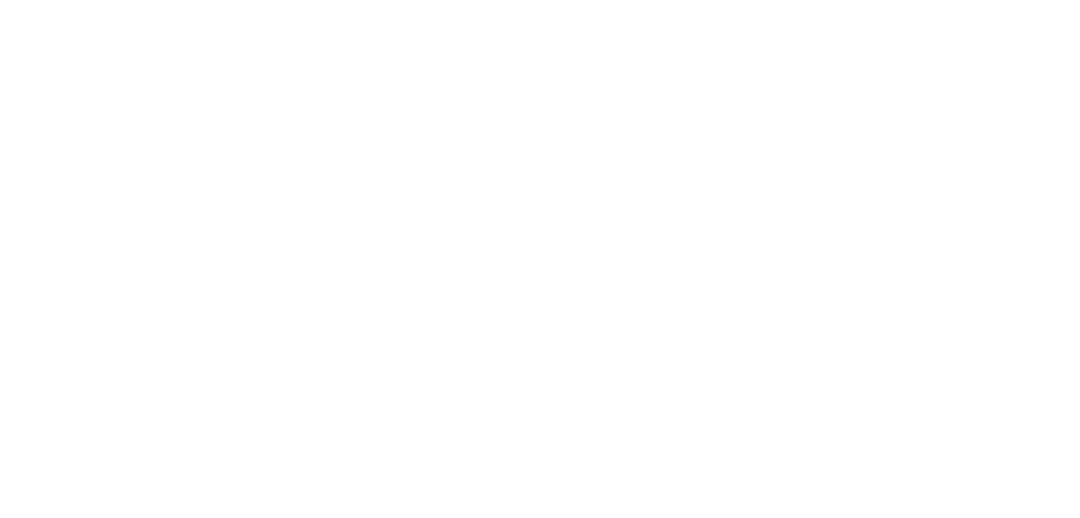
Политика большая и малая
В целом же, несмотря на растущую фрагментацию научно-технологической политики (причем не только по линии «США — Китай», как можно было ожидать, но и по линии «США — ЕС»), у всех, казалось бы, разнонаправленных тенденций 2024 года есть ряд общих особенностей.
Первая — политика победила здравый [экономический] смысл. Никогда такого не было — и вот опять: оказалось, что у ученых, стартаперов и CEO глобальных корпораций тоже есть паспорта. И им всё чаще приходится вести себя с оглядкой на то, что́ в этих паспортах написано.
Вторая — реакция на сверхвысокие темпы технологического развития, в разных форматах и формах: технологическое огораживание и растущий экспортный контроль; ограничения в области зарубежного финансирования R&D и стартапов (особенно по линии Китай — условный Запад).
И третья — растущая роль государства в управлении научно-технологическим развитием и его финансировании. И если в случае с Китаем это не новость (очередная реформа общестранового управления наукой — под еще бо́льшую централизацию — была объявлена в 2023 году), то для США и ЕС — таки да. Причин и поводов для роста как гос. влияния, так и общественного запроса на него великое множество, но основные — это, конечно, технологический суверенитет и соображения национальной безопасности. Потому что свободный рынок — свободным рынком, а танки — танками.
В целом же, несмотря на растущую фрагментацию научно-технологической политики (причем не только по линии «США — Китай», как можно было ожидать, но и по линии «США — ЕС»), у всех, казалось бы, разнонаправленных тенденций 2024 года есть ряд общих особенностей.
Первая — политика победила здравый [экономический] смысл. Никогда такого не было — и вот опять: оказалось, что у ученых, стартаперов и CEO глобальных корпораций тоже есть паспорта. И им всё чаще приходится вести себя с оглядкой на то, что́ в этих паспортах написано.
Вторая — реакция на сверхвысокие темпы технологического развития, в разных форматах и формах: технологическое огораживание и растущий экспортный контроль; ограничения в области зарубежного финансирования R&D и стартапов (особенно по линии Китай — условный Запад).
И третья — растущая роль государства в управлении научно-технологическим развитием и его финансировании. И если в случае с Китаем это не новость (очередная реформа общестранового управления наукой — под еще бо́льшую централизацию — была объявлена в 2023 году), то для США и ЕС — таки да. Причин и поводов для роста как гос. влияния, так и общественного запроса на него великое множество, но основные — это, конечно, технологический суверенитет и соображения национальной безопасности. Потому что свободный рынок — свободным рынком, а танки — танками.
В стиле милитари
Вопреки видимости, крен национальных научно-технологических комплексов в сторону национальной безопасности — история не столько ситуационная (как то, что прямо сейчас происходит с научной политикой в США), сколько стратегическая/долгосрочная. И связана она с несколькими современными особенностями технологического развития.
Во-первых, на протяжении последних 30 лет многие, если не все, технологии двойного назначения возникают и развиваются в гражданском секторе. В первую очередь, конечно, речь идет о цифровых решениях (ИИ, компьютерное зрение, автономные системы, квантовые вычисления и пр.), биотехнологиях, технологиях, связанных с новыми материалами, и пр. При этом военно-промышленный комплекс, как и почти любая отрасль промышленности, не может позволить себе разрабатывать все это с нуля и вынужден работать с гражданскими разработчиками и вендорами. И не все в ВПК этому рады. Не говоря уже о том, что интенсивное развитие технологий в гражданском секторе привело к появлению так называемых гибридных угроз, работать с которыми умеют далеко не все.
Во-вторых, интенсивное развитие гражданского технологического сектора сильно затрудняет как государственную поддержку двойных технологий, так и их регулирование: с нынешней скоростью развития технологий крайне сложно предсказать, какая из новых разработок получит военное применение. Соответственно, затруднены как целевые инвестиции в компании/технологии, так и экспортный контроль, вынужденно происходящий ad hoc.
В-третьих, концентрация рынка признанных критическими (для ВПК) новых технологий крайне высока: лидерами по абсолютному большинству направлений, начиная с гиперзвуковой авиации и заканчивая сенсорами и датчиками, являются США или Китай. Все остальные вынуждены либо дружить домами, либо использовать серый/черный импорт, либо пытаться строить технологический суверенитет в военно-промышленной сфере.
(Есть еще и «в-четвертых», конечно же: как показали последние три года, производственные мощности для ВПК важнее, чем абстрактные [и чудовищно дорогие] новые технологии, поэтому в 2024 году и ЕС, и США, и НАТО приняли и начали реализовывать отраслевые стратегии развития производственной базы в ВПК; но вкладываться в R&D и инновации это им пока не мешает.)
Самый характерный пример в этом плане — Европейский Союз: технологии двойного назначения — пожалуй, единственное направление R&D, в котором ЕС движется уверенно и последовательно. И в 2024 году он дошел до полной учености: Еврокомиссия опубликовала «Белую книгу» — специализированный документ, описывающий возможные форматы и направления поддержки технологий двойного назначения, по мотивам которого должны быть приняты политические решения и созданы соответствующие институты.
Вопреки видимости, крен национальных научно-технологических комплексов в сторону национальной безопасности — история не столько ситуационная (как то, что прямо сейчас происходит с научной политикой в США), сколько стратегическая/долгосрочная. И связана она с несколькими современными особенностями технологического развития.
Во-первых, на протяжении последних 30 лет многие, если не все, технологии двойного назначения возникают и развиваются в гражданском секторе. В первую очередь, конечно, речь идет о цифровых решениях (ИИ, компьютерное зрение, автономные системы, квантовые вычисления и пр.), биотехнологиях, технологиях, связанных с новыми материалами, и пр. При этом военно-промышленный комплекс, как и почти любая отрасль промышленности, не может позволить себе разрабатывать все это с нуля и вынужден работать с гражданскими разработчиками и вендорами. И не все в ВПК этому рады. Не говоря уже о том, что интенсивное развитие технологий в гражданском секторе привело к появлению так называемых гибридных угроз, работать с которыми умеют далеко не все.
Во-вторых, интенсивное развитие гражданского технологического сектора сильно затрудняет как государственную поддержку двойных технологий, так и их регулирование: с нынешней скоростью развития технологий крайне сложно предсказать, какая из новых разработок получит военное применение. Соответственно, затруднены как целевые инвестиции в компании/технологии, так и экспортный контроль, вынужденно происходящий ad hoc.
В-третьих, концентрация рынка признанных критическими (для ВПК) новых технологий крайне высока: лидерами по абсолютному большинству направлений, начиная с гиперзвуковой авиации и заканчивая сенсорами и датчиками, являются США или Китай. Все остальные вынуждены либо дружить домами, либо использовать серый/черный импорт, либо пытаться строить технологический суверенитет в военно-промышленной сфере.
(Есть еще и «в-четвертых», конечно же: как показали последние три года, производственные мощности для ВПК важнее, чем абстрактные [и чудовищно дорогие] новые технологии, поэтому в 2024 году и ЕС, и США, и НАТО приняли и начали реализовывать отраслевые стратегии развития производственной базы в ВПК; но вкладываться в R&D и инновации это им пока не мешает.)
Самый характерный пример в этом плане — Европейский Союз: технологии двойного назначения — пожалуй, единственное направление R&D, в котором ЕС движется уверенно и последовательно. И в 2024 году он дошел до полной учености: Еврокомиссия опубликовала «Белую книгу» — специализированный документ, описывающий возможные форматы и направления поддержки технологий двойного назначения, по мотивам которого должны быть приняты политические решения и созданы соответствующие институты.
Таймлайн политики ЕС по развитию технологий двойного назначения
2021
Принят план действий по улучшению синхронизации гражданских, военных и космических исследований, а также разработок в ЕС для повышения их эффективности и исключения двойного финансирования в рамках общеевропейских R&D-программ и программ поддержки инноваций. Кроме того, вступили в силу нормы экспортного контроля технологий двойного применения (Regulation EU 2021/821).
2022
Принята дорожная карта развития критических технологий для безопасности и обороны (Roadmap on Сritical Technologies for Security and Defence), в которой, помимо прочего, отмечена проблема отсутствия общеевропейских инструментов для развития технологий двойного назначения. В том же году разработана и внедрена специальная финансовая схема (EU Defence Innovation Scheme), позволяющая Европейскому фонду обороны инвестировать в малые и средние предприятия, в том числе стартапы и скейлапы, развивающие технологии двойного назначения.
2023
Приняты общеевропейские «Стратегия безопасности и обороны в космической сфере» (EU Space Strategy for Security and Defence) и «Стратегия экономической безопасности» (European Economic Security Strategy), предполагающие развитие критических для ЕС технологий, в том числе двойного назначения, включая ИИ, квантовые вычисления, микроэлектронику, биотехнологии и пр.
2024
Опубликована специализированная «Белая книга» по развитию технологий двойного назначения в ЕС и созданию общеевропейских инструментов их поддержки. В том же году Еврокомиссия перераспределила € 1,5 млрд из программы поддержки R&D Horizon Europe на нужды военных исследований и разработок (через Европейский фонд обороны).
Пока развитие планируется по четырем основным направлениям.
1) Законодательные инициативы: увязка R&D в интересах европейской безопасности с высокоуровневыми документами и политиками, в первую очередь — со «Стратегией обеспечения безопасности» (EU Security Union Strategy), долгосрочным планом повышения безопасности и развития обороны до 2030 года (Strategic Compass for Security and Defence), правилами экспортного контроля (в том числе для университетов и исследовательских центров) и едиными правилами оценки зарубежного вмешательства в дела ЕС (пакет норм/документов Defence of Democracy, принятый в 2023 году).
2) Развитие экосистемы финансирования для R&D «двойного назначения»:
3) Создание механизмов быстрого трансфера результатов R&D двойного назначения в военную промышленность — в рамках Стратегии и Программы развития оборонной промышленности (European Defence Industrial Strategy, 2024): специального Фонда трансформации оборонных поставок (Fund to Accelerate Defence Supply Chain Transformation, FAST) для финансирования стартапов и иных малых/средних предприятий в оборонной сфере.
(Пристальное внимание к производственной составляющей понятно: в 2022—2023 годах ЕС производил только 25 % вновь закупаемых вооружений; 75 % приходилось на импорт, причем больше половины импорта — на США.)
4) Выделение специализированных линий финансирования/поддержки в рамках общеевропейских программ, направленных на экономическое развитие, развитие рынков, кооперации т. д.: Европейского фонда регионального развития (European Regional Development Fund), программы «Цифровая Европа» (Digital Europe Programme) и др.
Эффективность всех этих мер пока под вопросом, не в последнюю очередь из-за того, что само понятие «технологии двойного назначения» — вещь крайне расплывчатая, к тому же на старте почти все околотехнологические R&D команды вынужденно исповедуют продуктовый агностицизм. Но жить-то надо.
1) Законодательные инициативы: увязка R&D в интересах европейской безопасности с высокоуровневыми документами и политиками, в первую очередь — со «Стратегией обеспечения безопасности» (EU Security Union Strategy), долгосрочным планом повышения безопасности и развития обороны до 2030 года (Strategic Compass for Security and Defence), правилами экспортного контроля (в том числе для университетов и исследовательских центров) и едиными правилами оценки зарубежного вмешательства в дела ЕС (пакет норм/документов Defence of Democracy, принятый в 2023 году).
2) Развитие экосистемы финансирования для R&D «двойного назначения»:
- создание специализированной линии финансирования технологий двойного назначения в рамках общеевропейской программы поддержки науки и инноваций FP10, которая должна стартовать в 2028 году после завершения Horizon Europe;
- развитие Европейского фонда обороны (European Defence Fund, EDF), в том числе за счет перераспределения общеевропейского финансирования R&D в его пользу и расширения мандата фонда в части грантовой и инвестиционной поддержки стартапов, университетских научных/разработческих групп и прочих нетрадиционных поставщиков технологических решений, которые могут быть полезны ВПК. (В 2024 году были заявлены планы создания специализированных акселерационных программ, программ технологического брокерства и пр. для малых и средних компаний.)
3) Создание механизмов быстрого трансфера результатов R&D двойного назначения в военную промышленность — в рамках Стратегии и Программы развития оборонной промышленности (European Defence Industrial Strategy, 2024): специального Фонда трансформации оборонных поставок (Fund to Accelerate Defence Supply Chain Transformation, FAST) для финансирования стартапов и иных малых/средних предприятий в оборонной сфере.
(Пристальное внимание к производственной составляющей понятно: в 2022—2023 годах ЕС производил только 25 % вновь закупаемых вооружений; 75 % приходилось на импорт, причем больше половины импорта — на США.)
4) Выделение специализированных линий финансирования/поддержки в рамках общеевропейских программ, направленных на экономическое развитие, развитие рынков, кооперации т. д.: Европейского фонда регионального развития (European Regional Development Fund), программы «Цифровая Европа» (Digital Europe Programme) и др.
Эффективность всех этих мер пока под вопросом, не в последнюю очередь из-за того, что само понятие «технологии двойного назначения» — вещь крайне расплывчатая, к тому же на старте почти все околотехнологические R&D команды вынужденно исповедуют продуктовый агностицизм. Но жить-то надо.
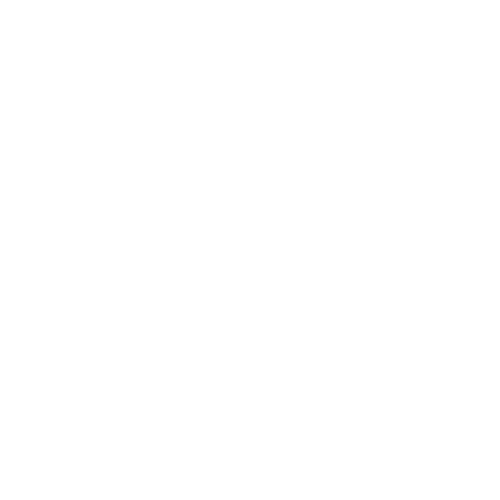
Что характерно, США исповедуют совершенно другой подход — ориентируются на активный поиск технологий и команд в гражданском секторе — и в 2024 году развернули под эту задачу целую экосистему инструментов поддержки и развития R&D и инноваций. Которая, несмотря на активное перетряхивание госуправления и всех крупных расходных статей при новой администрации, сохранится. Скорее всего.
DARPA — научно-исследовательское агентство при министерстве обороны США — и прочие околооборонные исследовательские институты, конечно же, никуда не делись, но с политической/институциональной точки зрения все самое интересное в части R&D и инноваций для американского ВПК сейчас происходит не там. В первую очередь, потому, что 11 из 14 критических для Минобороны технологий возникли и развиваются в гражданском/коммерческом секторе.
DARPA — научно-исследовательское агентство при министерстве обороны США — и прочие околооборонные исследовательские институты, конечно же, никуда не делись, но с политической/институциональной точки зрения все самое интересное в части R&D и инноваций для американского ВПК сейчас происходит не там. В первую очередь, потому, что 11 из 14 критических для Минобороны технологий возникли и развиваются в гражданском/коммерческом секторе.
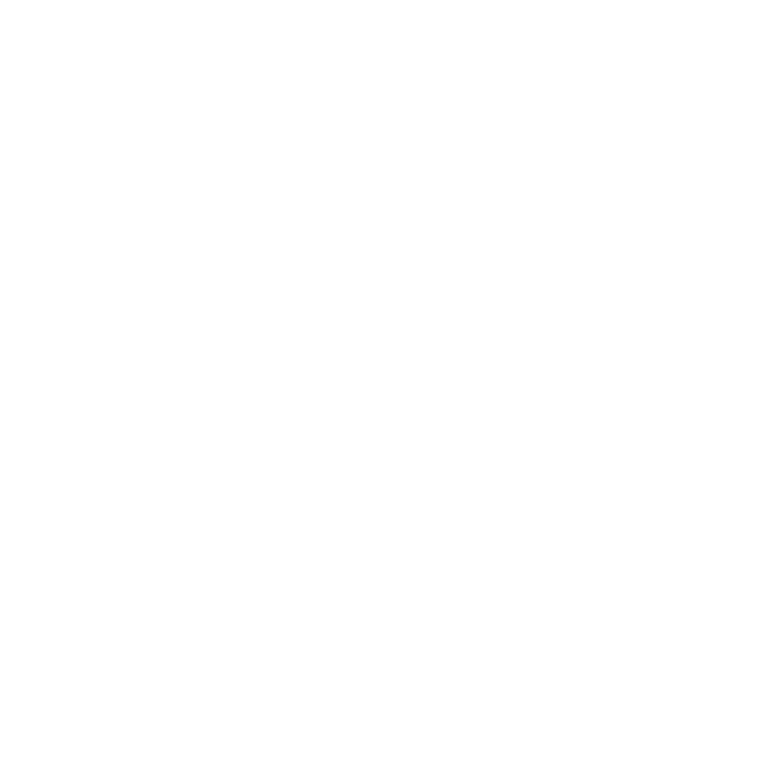
Здание Управления перспективных исследовательских проектов при министерстве обороны США
Критические для ВПК технологии, по версии министерства обороны США
1) Гражданские технологии:
2) Специфические военные технологии:
Источник: The Office of The Under Secretary of Defense for Research and Engineering (OUSD (R&E).
- биотехнологии;
- квантовые технологии (для военных применений: атомные часы, квантовые сенсоры, квантовые вычисления и сети);
- следующее поколение беспроводных технологий (5G+);
- новые/передовые материалы;
- [надежный] ИИ и технологии для автономности;
- сети сетей (совместимость различных способов передачи информации по всему электромагнитному спектру — 5G, традиционное радио и пр. — для управления и контроля);
- микроэлектроника;
- космические технологии (ведение боевых действий в космосе, коммуникации и пр.);
- возобновляемая энергетика (производство и хранение энергии: солнечные, ветровые, био- и геотермальные технологии; накопительные технологии; электродвигатели; сети и пр. для повышения автономности военных подразделений/групп);
- передовые компьютерные вычисления и ПО (суперкомпьютеры, облачные технологии, хранение данных, вычислительные архитектуры, обработка данных);
- человеко-машинные интерфейсы (в т. ч. AR/VR).
2) Специфические военные технологии:
- вооружения, использующие направленную передачу энергии (лазеры, микроволновые технологии высокой мощности, высокоэнергетичные пучки заряженных частиц и пр.);
- гиперзвуковая авиация;
- сети мультимодальных сенсоров (кибербезопасность, средства РЭБ, радары, современные коммуникации и пр.).
Источник: The Office of The Under Secretary of Defense for Research and Engineering (OUSD (R&E).
Строго говоря, задача быстрой разработки/поиска и поглощения перспективных технологий в целом была обозначена еще в 2022—2023 годах, в рамках новой «Стратегии нацобороны США» (National Defence Strategy, 2022) и разработанной по ее мотивам «Стратегии развития науки и технологий для нужд обороны» (National Defense Science and Technology Strategy, 2023). Но в 2024 году для решения этой задачи были развернуты новые оргмеханизмы:
И наконец, в 2024 году федеральный бюджет на R&D в США был урезан на 11,3 % по всем направлениям, кроме (предсказуемо) оборонных исследований и разработок. Что, пожалуй, демонстрирует текущие R&D-приоритеты куда лучше, чем все институциональные изменения и стратегии.
Что касается Китая, милитаризация науки и технологий для него — уже даже не вчерашний, а позавчерашний день: Академия военных наук (Academy of Military Sciences) была создана в Китае еще в 1949 году; идея применения гражданских технологий в военных целях витала в политических кругах, как минимум, с начала 2000‑х (в частности, в выступлениях Ху Цзиньтао, на тот момент зампредседателя Центрального военного совета КНР); в 2008 году Комиссия по науке, технологиям и промышленности для обороны была окончательно реформирована и переподчинена министерству промышленности и информационных технологий; а в 2012 году Си Цзиньпин объявил о необходимости «углубления и расширения технологического сотрудничества между военным и гражданским секторами».
Кроме того, разработка технологий для ВПК входит в мандат Академии наук КНР: она сотрудничает с Академией военных наук (очередное соглашение о стратегической кооперации было подписано в 2018 году), создает совместные лаборатории/научные центры с министерством общественной безопасности и вообще вносит вклад в обороноспособность страны, как может.
- полностью обновлены стратегия и программа развития Отдела по оборонным инновациям (Defense Innovation Unit, DIU) министерства обороны США, ответственного за взаимодействие с «нетрадиционным» коммерческим сектором: стартапами, гражданскими технологическими корпорациями и пр. (Основной целью DIU в ближайшие годы станет мгновенное — по меркам ВПК — масштабирование новых технологий и производства вооружений на их основе, то есть доводка стартапов до скейлапов, оперативная закупка IP и пр. Пилотным проектом здесь выступает Replicator — инициатива быстрого масштабирования автономных систем для военных применений, в первую очередь БПЛА и средств РЭБ; предполагается, что за счет отработки механизмов быстрой доводки технологий/продуктов до нужной кондиции время от идеи до применения на поле боя составит от 18 до 24 месяцев.);
- создан специализированный Офис стратегических инвестиций (Office of Strategic Capital, OSC), основная задача которого — обеспечить приток частных инвестиций в разработку технологий, в том числе критических, и продуктов на их основе. (OSC, как предполагается, будет управлять процессом доводки и приобретения технологий, начиная с быстрого грантового финансирования R&D и заканчивая выдачей льготных кредитов на технологии TRL6+ и масштабирование производств. В частности, инвестиционная стратегия OSC на 2025 год предусматривает грантовую и инвестподдержку для проектов в области массовых передовых стройматериалов, биохимии, кибербезопасности, управления данными, водородных технологий и пр.);
- утверждена Национальная стратегия развития оборонной промышленности (National Defense Industrial Strategy), в рамках которой планируется расширить участие «нетрадиционных» R&D и инновационных организаций в создании и развитии технологий для ВПК. (В частности, малые компании и исследовательские группы будут допущены к участию в целом ряде госпрограмм, ранее полностью для них закрытых: в программах льготных займов и госгарантий [в том числе в рамках Defense Production Act], программе министерства обороны по кибербезопасности, околовоенных акселераторах [APEX Accelerators] и пр. Кроме того, заявлены планы создания специализированных «ВПК-треков» в рамках общестрановых программ поддержки R&D в малых компаниях [SBIR] и технологического трансфера [STTR]).
И наконец, в 2024 году федеральный бюджет на R&D в США был урезан на 11,3 % по всем направлениям, кроме (предсказуемо) оборонных исследований и разработок. Что, пожалуй, демонстрирует текущие R&D-приоритеты куда лучше, чем все институциональные изменения и стратегии.
Что касается Китая, милитаризация науки и технологий для него — уже даже не вчерашний, а позавчерашний день: Академия военных наук (Academy of Military Sciences) была создана в Китае еще в 1949 году; идея применения гражданских технологий в военных целях витала в политических кругах, как минимум, с начала 2000‑х (в частности, в выступлениях Ху Цзиньтао, на тот момент зампредседателя Центрального военного совета КНР); в 2008 году Комиссия по науке, технологиям и промышленности для обороны была окончательно реформирована и переподчинена министерству промышленности и информационных технологий; а в 2012 году Си Цзиньпин объявил о необходимости «углубления и расширения технологического сотрудничества между военным и гражданским секторами».
Кроме того, разработка технологий для ВПК входит в мандат Академии наук КНР: она сотрудничает с Академией военных наук (очередное соглашение о стратегической кооперации было подписано в 2018 году), создает совместные лаборатории/научные центры с министерством общественной безопасности и вообще вносит вклад в обороноспособность страны, как может.
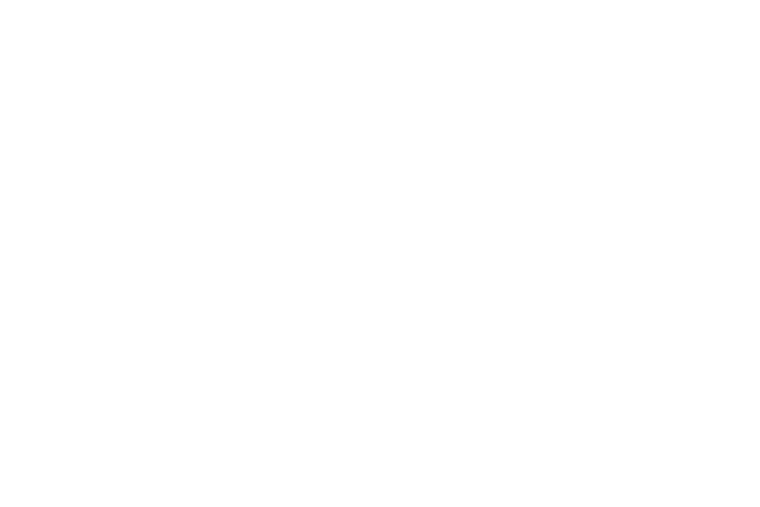
Сферический детектор нейтрино JUNO, Китай
Суверенное лидерство
В части научно-технологической политики 2024 год в России стал на редкость продуктивным: были приняты три основных документа, определяющих контуры и механизмы управления научно-технологическим развитием: «Стратегия научно-технологического развития» (Указ Президента Р Ф от 28.02.2024 № 145), федеральный закон «О технологической политике в Российской Федерации» (ФЗ от 28.12. 2024 № 523-ФЗ), а также перечень приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоемких технологий (Указ Президента Р Ф от 18.06. 2024 № 529).
Основы новой российской научно-технологической политики напоминают то, что происходит в Китае (и, как ни странно, в США тоже).
Во-первых, и в «Стратегии», и в ФЗ «О технологической политике» заметна продуктовая логика:
Во-вторых, налицо централизация и увязка научно-технологического развития с национальными целями, утвержденными в более высокоуровневых документах/политиках (помимо утверждения стратегии, ФЗ и перечней технологий):
В-третьих, «важнейшие наукоемкие» и «сквозные» технологии (по версии 2024 года) в целом совпадают с теми, которые считаются критическими у наших западных и восточных коллег и конкурентов: ИИ и автономность, квантовые технологии, космос, новые материалы и пр.; под их развитие запланирована реализация национальных проектов по достижению технологического лидерства («Беспилотные авиационные системы», «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизация» и пр.).
К сожалению, эти же окологлобальные особенности российской научно-технологической политики будут определять проблемы, с которыми придется разбираться на пути к искомому технологическому лидерству:
Но все эти мосты мы сожжем, когда дойдем до них.
В части научно-технологической политики 2024 год в России стал на редкость продуктивным: были приняты три основных документа, определяющих контуры и механизмы управления научно-технологическим развитием: «Стратегия научно-технологического развития» (Указ Президента Р Ф от 28.02.2024 № 145), федеральный закон «О технологической политике в Российской Федерации» (ФЗ от 28.12. 2024 № 523-ФЗ), а также перечень приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоемких технологий (Указ Президента Р Ф от 18.06. 2024 № 529).
Основы новой российской научно-технологической политики напоминают то, что происходит в Китае (и, как ни странно, в США тоже).
Во-первых, и в «Стратегии», и в ФЗ «О технологической политике» заметна продуктовая логика:
- ФЗ «О технологической политике» предполагает, что технологическое лидерство должно перерасти в создание высокотехнологичных продуктов — либо для игры на глобальном рынке (экспорта), либо для замещения продуктов зарубежного производства на российском рынке, причем в законе прямо прописано, что отечественные технологии и продукты должны превосходить зарубежные аналоги. Это же предусмотрено «Стратегией научно-технологического развития»: ответом на «большие вызовы» должно стать создание наукоемких технологий и продукции;
- в «продуктовой логике» (по меньшей мере частично) был создан институт «квалифицированного заказчика» (организация из реального сектора экономики, выступающая в качестве заказчика на R&D и/или производимую наукоемкую продукцию). В частности, в 2025—2027 годах Минобрнауки и РАН проведут эксперимент по привлечению «квалифицированных заказчиков» к формированию госзадания на фундаментальные поисковые исследования (проект «Госзадание 2.0»): по запросу от организаций министерство и РАН будут подбирать наиболее подходящие команды исполнителей и «выдавать» задания на R&D;
- с 2023 года идет трансформация научно-технической экспертизы РАН: предполагается, что результаты научно-исследовательских работ, проектов и пр. будут оцениваться, в числе прочего, с точки зрения их применимости в экономике.
Во-вторых, налицо централизация и увязка научно-технологического развития с национальными целями, утвержденными в более высокоуровневых документах/политиках (помимо утверждения стратегии, ФЗ и перечней технологий):
- идет пересборка реализуемых программ и проектов научно-технологического развития; в частности, на достижение «технологического лидерства» в 2025 году будет переориентирована программа «Приоритет‑2030» (а государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» предположительно уже пересобрана под задачи достижения технологического суверенитета);
- в 2025 году Минобрнауки планирует перейти к централизованному управлению R&D, проводимыми за государственный счет, на базе Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ЕГИСУ НИОКТР).
В-третьих, «важнейшие наукоемкие» и «сквозные» технологии (по версии 2024 года) в целом совпадают с теми, которые считаются критическими у наших западных и восточных коллег и конкурентов: ИИ и автономность, квантовые технологии, космос, новые материалы и пр.; под их развитие запланирована реализация национальных проектов по достижению технологического лидерства («Беспилотные авиационные системы», «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизация» и пр.).
К сожалению, эти же окологлобальные особенности российской научно-технологической политики будут определять проблемы, с которыми придется разбираться на пути к искомому технологическому лидерству:
- российская наука пока мало ориентирована на продуктовые разработки: по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, на долю фундаментальных исследований у нас приходится порядка 35 % финансирования, в то время как в США и Китае «фундаменталка» съедает только 15 % и 6 % научных денег. (Что, впрочем, прямо связано с наличием [или отсутствием] глобальных высокотехнологичных компаний и спроса на исследования и разработки со стороны коммерческого сектора [в Китае на коммерческие компании приходится больше 80 % всех вложений в R&D, в США — 78−80 %, в России — меньше 40 %].);
- при этом объемы российского научного задела по большинству приоритетных технологий/направлений не так велики, как хотелось бы, особенно с учетом гиперконцентрации соответствующих компетенций и денег у мировых научных суперсил — Китая и США (в частности, Китай — если судить по количеству и качеству научных публикаций — лидирует по 50+ критическим технологиям, США — как минимум, по 10);
- не ясно, каким образом обеспечивать обновление приоритетов, перечней приоритетных технологий и механизмов их развития — так, чтобы не опоздать к очередной технологической революции (скажем, в части искусственного интеллекта): стратегии и ФЗ с этой точки зрения — крайне негибкие инструменты. (Отчасти эту проблему решают национальные проекты, направленные на достижение технологического лидерства, но технологий и технологических направлений все-таки не девять, а гораздо больше.);
- и, конечно же, животрепещущим остается вопрос необходимого и достаточного финансирования исследований и разработок, хоть фундаментальных, хоть поисковых, хоть прикладных.
Но все эти мосты мы сожжем, когда дойдем до них.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ