Секреты «Интерстеллара»
ВЗГЛЯД / #2_2025
Беседовал Максим ГРЕВЦЕВ / Фото: Paramount Pictures, Wikipedia, EHT Collaboration, NASA, Chandra XRay, LIGO, Unsplash
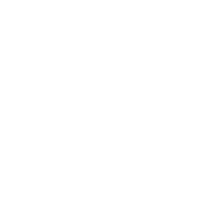
Культовому фильму «Интерстеллар» совсем недавно исполнилось 10 лет. В этом эталоне научной фантастики огромное внимание уделяется достоверности сюжета. А все потому, что автором идеи, одним из сценаристов и научным консультантом был астрофизик Кип Торн, который через три года после выхода блокбастера на экраны стал Нобелевским лауреатом. В своей книге «Интерстеллар. Наука за кадром» К. Торн подробно комментирует научную составляющую фильма. Однако даже после прочтения книги остаются вопросы. Ответить на них мы попросили доктора физико-математических наук, зав. лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, обладателя Национальной премии «Книга года 2023» Алексея Семихатова.
Гаргантюа и Пантагрюэль
Начнем с главного — с Гаргантюа. Так называется черная дыра, к которой направляются герои фильма. Именно в ее окрестностях обнаружены три планеты (Миллер, Эдмундс и Манн), потенциально пригодные для жизни. Гаргантюа в 100 млн раз тяжелее Солнца. К. Торн пишет: «Будь Гаргантюа не такой массивной, планету Миллер разорвало бы на части!» Это заявление контринтуитивно, ведь кажется, что чем больше масса дыры, тем меньше шансов у какого-то объекта остаться на орбите и не быть намертво поглощенным дырой. Как понимать К. Торна?
Все объясняется приливными силами. Вот пример: Луна находится от Земли на расстоянии примерно 400 тыс. км, но если бы это расстояние сократилось в 40 раз, то Земля притягивала бы видимую часть Луны намного сильнее, чем ее центр; а центр, в свою очередь, намного сильнее, чем невидимую сторону Луны. Что значит «намного»? Настолько, что разница между этими силами преодолеет гравитацию самой Луны — и она перестанет существовать в виде тела. Земля в результате обрела бы кольца.
Теперь про черную дыру (ЧД). ЧД — это не тело, а область в пространстве, из которой даже свет не может вырваться из-за гравитации. Граница этой области — в простейшем случае воображаемая сфера — называется горизонтом событий. Размер ее зависит от массы материи, из которой состоит ЧД. Чем больше масса, тем больше радиус горизонта событий. А теперь представим себе, что мы находимся в трех метрах от черной дыры с радиусом горизонта 1 метр: если я вытяну руку в сторону ЧД, то моя ладонь окажется на треть ближе к центру притяжения, чем тело, и ее оторвет из-за разницы сил притяжения. (На самом деле у меня нет шансов остаться в виде тела.) Но если радиус горизонта событий 1 млн км, то моя вытянутая рука приблизится к центру лишь на одну миллиардную расстояния, и разница между силами притяжения будет незаметна.
Итак, приближение к горизонту сверхмассивной черной дыры, в отличие от небольшой, не грозит разрушением. Если корабль пересечет горизонт событий сверхмассивной черной дыры, то никто внутри корабля этого не заметит, а если это будет небольшая черная дыра, то уже на подлете к горизонту событий корабль и экипаж будут спагеттифицированы, то есть растянуты приливными силами.
Начнем с главного — с Гаргантюа. Так называется черная дыра, к которой направляются герои фильма. Именно в ее окрестностях обнаружены три планеты (Миллер, Эдмундс и Манн), потенциально пригодные для жизни. Гаргантюа в 100 млн раз тяжелее Солнца. К. Торн пишет: «Будь Гаргантюа не такой массивной, планету Миллер разорвало бы на части!» Это заявление контринтуитивно, ведь кажется, что чем больше масса дыры, тем меньше шансов у какого-то объекта остаться на орбите и не быть намертво поглощенным дырой. Как понимать К. Торна?
Все объясняется приливными силами. Вот пример: Луна находится от Земли на расстоянии примерно 400 тыс. км, но если бы это расстояние сократилось в 40 раз, то Земля притягивала бы видимую часть Луны намного сильнее, чем ее центр; а центр, в свою очередь, намного сильнее, чем невидимую сторону Луны. Что значит «намного»? Настолько, что разница между этими силами преодолеет гравитацию самой Луны — и она перестанет существовать в виде тела. Земля в результате обрела бы кольца.
Теперь про черную дыру (ЧД). ЧД — это не тело, а область в пространстве, из которой даже свет не может вырваться из-за гравитации. Граница этой области — в простейшем случае воображаемая сфера — называется горизонтом событий. Размер ее зависит от массы материи, из которой состоит ЧД. Чем больше масса, тем больше радиус горизонта событий. А теперь представим себе, что мы находимся в трех метрах от черной дыры с радиусом горизонта 1 метр: если я вытяну руку в сторону ЧД, то моя ладонь окажется на треть ближе к центру притяжения, чем тело, и ее оторвет из-за разницы сил притяжения. (На самом деле у меня нет шансов остаться в виде тела.) Но если радиус горизонта событий 1 млн км, то моя вытянутая рука приблизится к центру лишь на одну миллиардную расстояния, и разница между силами притяжения будет незаметна.
Итак, приближение к горизонту сверхмассивной черной дыры, в отличие от небольшой, не грозит разрушением. Если корабль пересечет горизонт событий сверхмассивной черной дыры, то никто внутри корабля этого не заметит, а если это будет небольшая черная дыра, то уже на подлете к горизонту событий корабль и экипаж будут спагеттифицированы, то есть растянуты приливными силами.
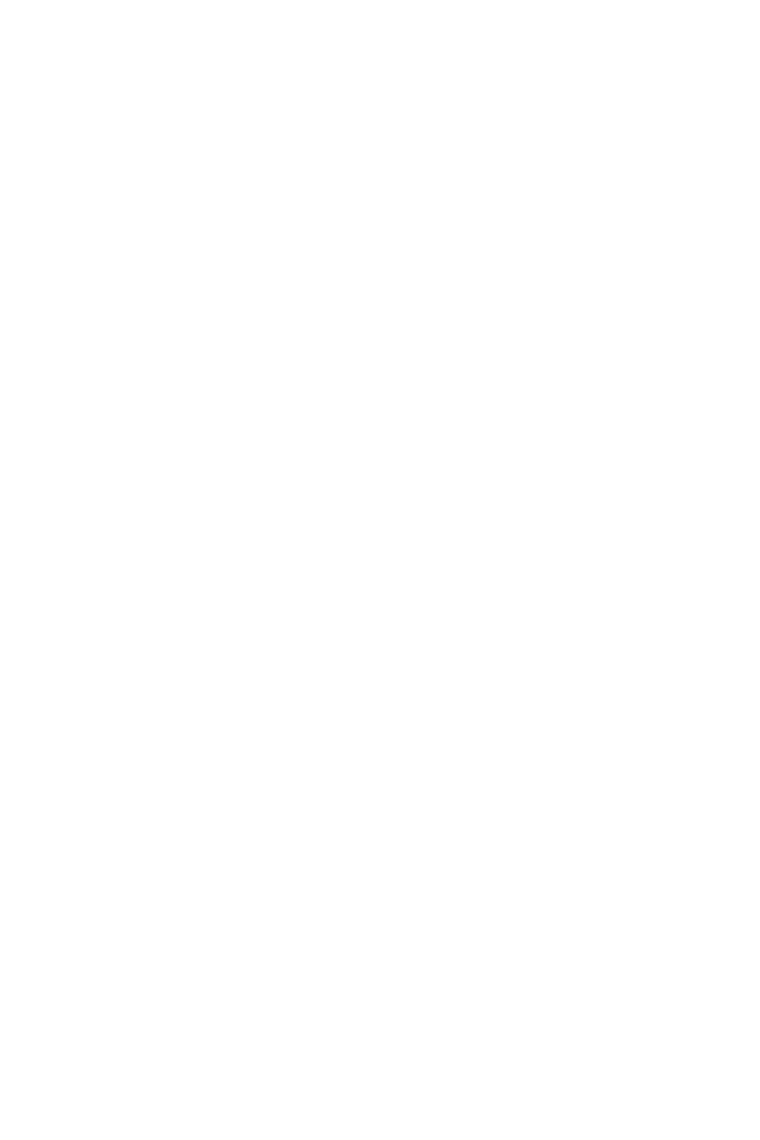
Кип Торн — лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года, автор идеи, один из сценаристов и научный консультант фильма «Интерстеллар»
Кстати, изначально К. Торн придумал систему с двумя черными дырами; вторая должна была называться Пантагрюэль. Именно вокруг нее герои должны были совершить гравитационный маневр, замедлиться и приземлиться на планету Миллер. Но режиссер Кристофер Нолан заявил, что не нужно путать зрителей двумя дырами. Так появилась нейтронная звезда. Ученый не смог убедить режиссера в том, что она не подходит для сюжета. Почему с точки зрения физики черная дыра среднего размера (диаметром не менее 10 тыс. км) — лучший вариант для гравитационного маневра?
Нейтронные звезды — небольшие тела (их диаметры порядка 20 км), имеющие при этом массу в два раза большую, чем у Солнца! Они называются звездами, так сказать, по инерции: ядерные реакции синтеза внутри них уже не идут. Если обычной звезде чуть-чуть не хватает массы, чтобы сколлапсировать в черную дыру, то она останавливается на этапе нейтронной звезды. Приливные эффекты, о которых мы только что говорили, вблизи нейтронных звезд чудовищны.
При этом никакого горизонта событий у нейтронной звезды нет; наружу выходит поток нейтрино колоссальной интенсивности. Испуская эти частицы, нейтронные звезды остывают (видимо, это единственные объекты во Вселенной, остывающие изнутри, а не через поверхность). Нейтрино очень слабо взаимодействуют с материей, но когда это происходит, возникает процесс, обратный бета-распаду: протоны превращаются в нейтроны. Это один из способов детектирования нейтрино на Земле, но происходит такое очень редко, потому что, как уже было сказано, нейтрино вступают во взаимодействия крайне неохотно, а их поток на нашей планете неимоверно слаб в сравнении с тем, что наблюдается в окрестностях нейтронной звезды. Там материя мутирует под его влиянием.
И конечно, нейтронные звезды обладают неимоверными магнитными полями, в тысячи миллиардов раз более мощными, чем Земля. Поэтому приближение к нейтронной звезде — это крах всей электроники. Более того, даже химические связи внутри молекул, из которых состоит экипаж, могут разрываться. В общем, к нейтронным звездам приближаться не стоит.
Нейтронные звезды — небольшие тела (их диаметры порядка 20 км), имеющие при этом массу в два раза большую, чем у Солнца! Они называются звездами, так сказать, по инерции: ядерные реакции синтеза внутри них уже не идут. Если обычной звезде чуть-чуть не хватает массы, чтобы сколлапсировать в черную дыру, то она останавливается на этапе нейтронной звезды. Приливные эффекты, о которых мы только что говорили, вблизи нейтронных звезд чудовищны.
При этом никакого горизонта событий у нейтронной звезды нет; наружу выходит поток нейтрино колоссальной интенсивности. Испуская эти частицы, нейтронные звезды остывают (видимо, это единственные объекты во Вселенной, остывающие изнутри, а не через поверхность). Нейтрино очень слабо взаимодействуют с материей, но когда это происходит, возникает процесс, обратный бета-распаду: протоны превращаются в нейтроны. Это один из способов детектирования нейтрино на Земле, но происходит такое очень редко, потому что, как уже было сказано, нейтрино вступают во взаимодействия крайне неохотно, а их поток на нашей планете неимоверно слаб в сравнении с тем, что наблюдается в окрестностях нейтронной звезды. Там материя мутирует под его влиянием.
И конечно, нейтронные звезды обладают неимоверными магнитными полями, в тысячи миллиардов раз более мощными, чем Земля. Поэтому приближение к нейтронной звезде — это крах всей электроники. Более того, даже химические связи внутри молекул, из которых состоит экипаж, могут разрываться. В общем, к нейтронным звездам приближаться не стоит.
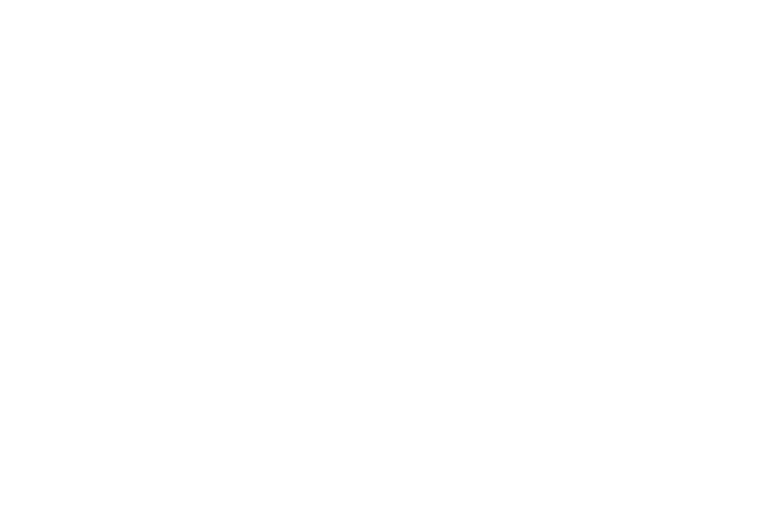
Одна из самых больших черных дыр, известных ученым, находится в галактике Messier 87
Миллер: планета-обман
Миллер — ближайшая к Гаргантюа планета. Там герои столкнулись с гигантскими волнами, а главное — с чудовищным замедлением времени: один час на планете Миллер равняется семи годам на Земле. К. Нолану это было нужно для драматизации сюжета, и К. Торн сумел опать «легализовать» это с точки зрения физики, расположив планету максимально близко к горизонту событий, а саму черную дыру заставив невероятно быстро вращаться (всего на одну стотриллионную долю медленнее максимально возможной скорости). Это вращение можно было бы заметить с помощью падающего на Гаргантюа робота ТАРСа: свет, отражающийся от робота, вращался бы вокруг горизонта событий. При радиусе 150 млн км длина окружности горизонта составляет 1 млрд км, и полный оборот ТАРС делал бы за час. То есть скорость вращения — 1 млрд км/ч, почти скорость света.
Почему важно вращение именно Гаргантюа, а не планеты Миллер?
Во-первых, Гаргантюа не может не вращаться. Все астрофизические объекты вращаются. Да, через пару месяцев после того, как осенью 1915 года Альберт Эйнштейн обнародовал общую теорию относительности, Карл Шварцшильд, находясь на восточном фронте, решил уравнения Эйнштейна в частном случае единственного источника гравитации во всей Вселенной, и к тому же без вращения. До изобретения понятия «черная дыра» оставалось примерно полвека. Наличие горизонта выглядело настолько странно, что в 1939 году А. Эйнштейн написал: сингулярности Шварцшильда не могут существовать. В 1963 году Рой Патрик Керр обобщил решение К. Шварцшильда для случая с вращением, и мы сейчас полагаем, что астрофизические черные дыры по своим свойствам весьма близки к тому, что предсказывает решение Р. П. Керра. Решение К. Шварцшильда — черная дыра без вращения — остается частным случаем решения Р. П. Керра, и многие (хотя и не все) эффекты черных дыр часто обсуждают именно в варианте К. Шварцшильда.
Миллер — ближайшая к Гаргантюа планета. Там герои столкнулись с гигантскими волнами, а главное — с чудовищным замедлением времени: один час на планете Миллер равняется семи годам на Земле. К. Нолану это было нужно для драматизации сюжета, и К. Торн сумел опать «легализовать» это с точки зрения физики, расположив планету максимально близко к горизонту событий, а саму черную дыру заставив невероятно быстро вращаться (всего на одну стотриллионную долю медленнее максимально возможной скорости). Это вращение можно было бы заметить с помощью падающего на Гаргантюа робота ТАРСа: свет, отражающийся от робота, вращался бы вокруг горизонта событий. При радиусе 150 млн км длина окружности горизонта составляет 1 млрд км, и полный оборот ТАРС делал бы за час. То есть скорость вращения — 1 млрд км/ч, почти скорость света.
Почему важно вращение именно Гаргантюа, а не планеты Миллер?
Во-первых, Гаргантюа не может не вращаться. Все астрофизические объекты вращаются. Да, через пару месяцев после того, как осенью 1915 года Альберт Эйнштейн обнародовал общую теорию относительности, Карл Шварцшильд, находясь на восточном фронте, решил уравнения Эйнштейна в частном случае единственного источника гравитации во всей Вселенной, и к тому же без вращения. До изобретения понятия «черная дыра» оставалось примерно полвека. Наличие горизонта выглядело настолько странно, что в 1939 году А. Эйнштейн написал: сингулярности Шварцшильда не могут существовать. В 1963 году Рой Патрик Керр обобщил решение К. Шварцшильда для случая с вращением, и мы сейчас полагаем, что астрофизические черные дыры по своим свойствам весьма близки к тому, что предсказывает решение Р. П. Керра. Решение К. Шварцшильда — черная дыра без вращения — остается частным случаем решения Р. П. Керра, и многие (хотя и не все) эффекты черных дыр часто обсуждают именно в варианте К. Шварцшильда.
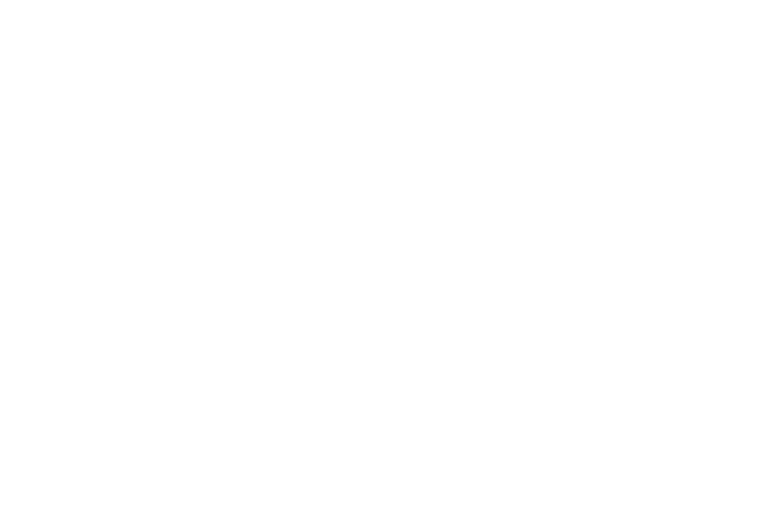
Снимок крабовидной туманности, сделанный космической рентгеновской обсерваторией Chandra. Нейтронная звезда в центре туманности испускает мощные потоки энергии и частиц, создавая сложную структуру вокруг себя
Во-вторых, нужно ввести такое понятие, как «ближайшая устойчивая круговая орбита» (БУКО). Для невращающейся ЧД ее радиус составляет три радиуса горизонта. Круговых орбит, расположенных ближе, просто нет; орбиты другой формы могут приближаться к горизонту на меньшие расстояния, чем БУКО, но с ними все непросто, потому что именно на расстоянии, примерно определяемом радиусом БУКО, разворачиваются в полную силу эффекты общей теории относительности: именно там гравитация значительно усиливается. Если Ч Д вращается, то радиус БУКО больше или меньше, чем для неподвижной ЧД, в зависимости от направления вращения тела. К. Торну нужна была орбита планеты, близко подходящая к горизонту, чтобы добиться такого чудовищного замедления времени (порядка 60 тыс. раз). На таких орбитах планеты вынуждены двигаться очень быстро (у К. Торна — 55 % скорости света).
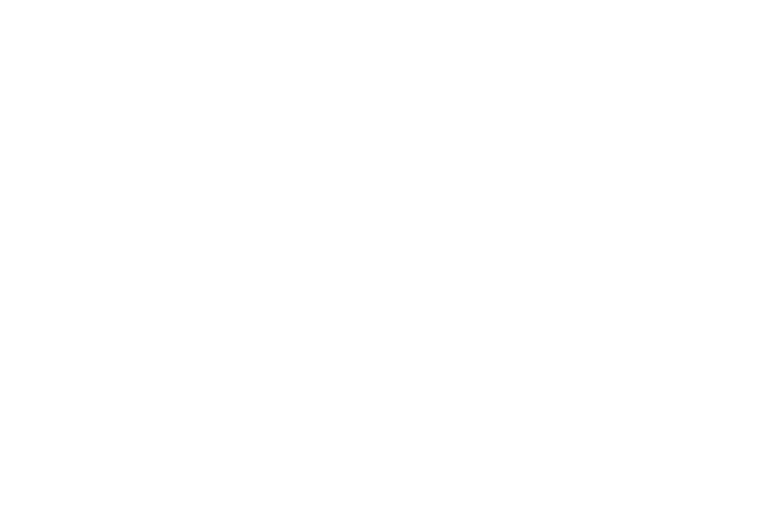
Кадр из фильма «Интерстеллар»
Однако есть и третий аспект, о котором в фильме не говорится (хотя можно усмотреть намек), — эффект Пенроуза. Вращающаяся Ч Д притягивает тела не только по направлению к себе, но и «вбок» (!), в сторону вращения. Иногда говорят, что вращающаяся ЧД закручивает пространство-время вокруг себя. С внешней стороны горизонта возникает область, из которой можно вернуться, но в ней нельзя не вращаться. Это эргосфера. Проникнув в нее, можно исполнить следующий трюк: выбросить в направлении черной дыры какой-то предмет, предварительно прицелившись; и вы вылетите из эргосферы, получив импульс от черной дыры! Это и показал теоретически Роджер Пенроуз. Получается, что ЧД отдает часть своей энергии вращения (технически — момента количества движения; в принципе, многократным повторением таких действий можно хорошенько замедлить вращающуюся ЧД, пустив уйму энергии на что-то полезное). Собственно, главный герой, капитан Джозеф Купер вместе с роботом ТАРСом отстыковываются, «отбрасывая» себя, чтобы Амелия Бренд улетела. Зрители, наверное, думают, что корабль сбросил балласт и стал легче, поэтому двигателям хватило тяги для того, чтобы улететь. Но я подозреваю, что в ранних версиях сценария здесь подразумевался эффект Пенроуза.
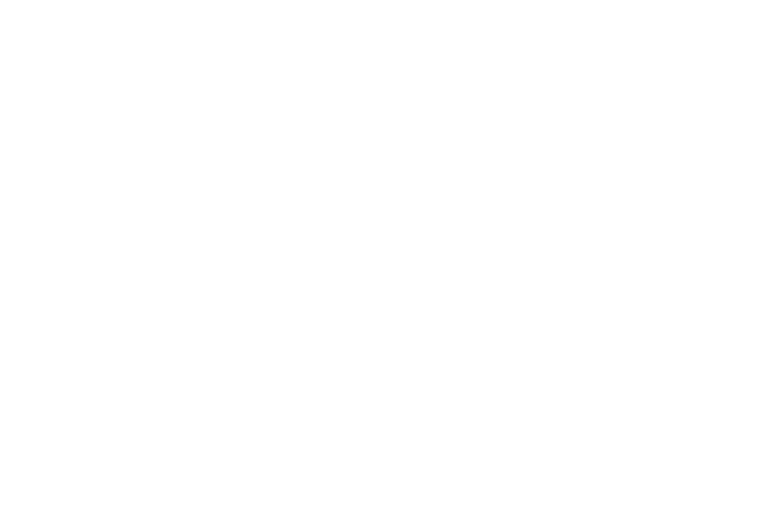
Модель черной дыры
Наука «червоточин»
Космический корабль с героями на борту быстро оказывается очень далеко от Солнечной системы благодаря «кротовой норе», или «червоточине», обнаруженной рядом с Сатурном. На основе общей теории относительности возможность существования тоннелей между различными точками Вселенной математически доказал еще в 1916 году Людвиг Фламм, а в 1935 году такое предположение высказал и сам А. Эйнштейн. То есть идея «кротовых нор» не нова. Мы привыкли представлять себе «кротовые норы», или «червоточины», как шахты лифта, соединяющие этажи. Но в «Интерстелларе» они выглядят как сферы. К. Торн объясняет, что на двухмерных схемах «червоточины» кажутся просто дырами, а в трехмерном пространстве такая дыра выглядела бы как сфера. Он также предполагает, что проходимые «червоточины» должны содержать большое количество экзотической материи с отрицательной массой. Что такое экзотическая материя? Существует ли она? Или это научное допущение, как и темная материя/энергия?
«Червоточина» — это черная дыра с выходом «где-то там». Внутри Ч Д — сингулярность, а что можно увидеть внутри «кротовой норы» — большой вопрос. Очень оптимистично интерпретируя уравнения Эйнштейна, можно предположить, что оттуда возможен выход в другую область пространства-времени. Собственно, уравнения Эйнштейна во всех случаях постулируют «согласие» между геометрией пространства-времени и материей. «Червоточина» — это геометрия. Для того чтобы она существовала, нужна подходящая материя. Среди прочего, что-то должно удерживать червоточину от схлопывания. Оказывается, тут нужна материя с парадоксальными характеристиками: в ней должно быть нарушено свойство энергодоминантности — грубо говоря, такая экзотическая материя должна иметь что-то вроде отрицательной массы. (Речь идет о поле, а у поля есть несколько «энергетических» характеристик помимо массы с «положительными» свойствами. Эти свойства присущи всем известным нам полям, но для материи, поддерживающей существование «червоточины», некоторые из них должны нарушаться.) Важно подчеркнуть, что экзотическая материя — это не антиматерия! Антиматерия имеет положительную массу и все остальные «положительные» свойства, а здесь требуется нечто намного более радикальное. Антиматерия участвует в гравитационном взаимодействии способом, аналогичным способу «просто» материи, в то время как экзотическая материя склонна к антигравитации.
Существует ли экзотическая материя? Нам неизвестен закон природы, который бы запрещал ее существование. Однако очевидно, что если мы захотим использовать эту материю в своих целях, то придется каким-то образом ее организовывать (складировать, перемещать и т. п.), а для этого требуется, чтобы поля, которыми мы умеем управлять (честно говоря, это только одно электромагнитное поле), взаимодействовали с экзотической материей. Стандартная модель даже не намекает на существование такой возможности. Теоретически можно подобрать некоторую конфигурацию более или менее привычных (хотя и гипотетических) полей, порождающих экзотическую материю, но это всего лишь математические упражнения.
Похожа ли на экзотическую материю темная энергия? (Напомним: мы не знаем о ней ничего, кроме того, что это «то самое нечто», которое, согласно уравнениям Эйнштейна, вызывает ускоренное расширение Вселенной.) Она тоже обладает эффектом антигравитации. Но у темной энергии масса все же положительная, хотя давление — отрицательное.
Космический корабль с героями на борту быстро оказывается очень далеко от Солнечной системы благодаря «кротовой норе», или «червоточине», обнаруженной рядом с Сатурном. На основе общей теории относительности возможность существования тоннелей между различными точками Вселенной математически доказал еще в 1916 году Людвиг Фламм, а в 1935 году такое предположение высказал и сам А. Эйнштейн. То есть идея «кротовых нор» не нова. Мы привыкли представлять себе «кротовые норы», или «червоточины», как шахты лифта, соединяющие этажи. Но в «Интерстелларе» они выглядят как сферы. К. Торн объясняет, что на двухмерных схемах «червоточины» кажутся просто дырами, а в трехмерном пространстве такая дыра выглядела бы как сфера. Он также предполагает, что проходимые «червоточины» должны содержать большое количество экзотической материи с отрицательной массой. Что такое экзотическая материя? Существует ли она? Или это научное допущение, как и темная материя/энергия?
«Червоточина» — это черная дыра с выходом «где-то там». Внутри Ч Д — сингулярность, а что можно увидеть внутри «кротовой норы» — большой вопрос. Очень оптимистично интерпретируя уравнения Эйнштейна, можно предположить, что оттуда возможен выход в другую область пространства-времени. Собственно, уравнения Эйнштейна во всех случаях постулируют «согласие» между геометрией пространства-времени и материей. «Червоточина» — это геометрия. Для того чтобы она существовала, нужна подходящая материя. Среди прочего, что-то должно удерживать червоточину от схлопывания. Оказывается, тут нужна материя с парадоксальными характеристиками: в ней должно быть нарушено свойство энергодоминантности — грубо говоря, такая экзотическая материя должна иметь что-то вроде отрицательной массы. (Речь идет о поле, а у поля есть несколько «энергетических» характеристик помимо массы с «положительными» свойствами. Эти свойства присущи всем известным нам полям, но для материи, поддерживающей существование «червоточины», некоторые из них должны нарушаться.) Важно подчеркнуть, что экзотическая материя — это не антиматерия! Антиматерия имеет положительную массу и все остальные «положительные» свойства, а здесь требуется нечто намного более радикальное. Антиматерия участвует в гравитационном взаимодействии способом, аналогичным способу «просто» материи, в то время как экзотическая материя склонна к антигравитации.
Существует ли экзотическая материя? Нам неизвестен закон природы, который бы запрещал ее существование. Однако очевидно, что если мы захотим использовать эту материю в своих целях, то придется каким-то образом ее организовывать (складировать, перемещать и т. п.), а для этого требуется, чтобы поля, которыми мы умеем управлять (честно говоря, это только одно электромагнитное поле), взаимодействовали с экзотической материей. Стандартная модель даже не намекает на существование такой возможности. Теоретически можно подобрать некоторую конфигурацию более или менее привычных (хотя и гипотетических) полей, порождающих экзотическую материю, но это всего лишь математические упражнения.
Похожа ли на экзотическую материю темная энергия? (Напомним: мы не знаем о ней ничего, кроме того, что это «то самое нечто», которое, согласно уравнениям Эйнштейна, вызывает ускоренное расширение Вселенной.) Она тоже обладает эффектом антигравитации. Но у темной энергии масса все же положительная, хотя давление — отрицательное.
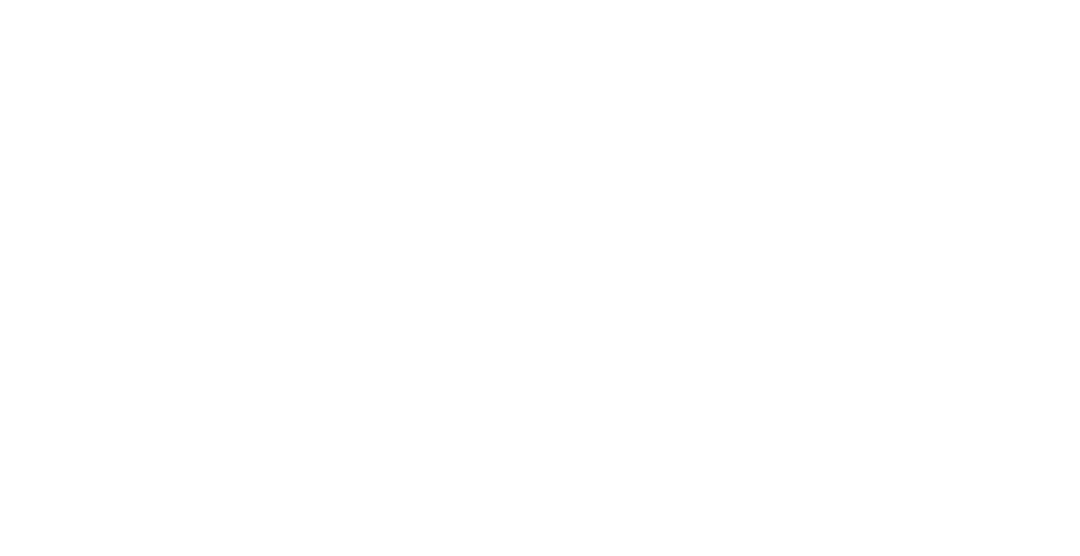
Северный детектор (х-рукав) интерферометра гравитационной обсерватории LIGO (Хэнфорд, США). Проект был предложен в 1992 г. Кипом Торном, Рональдом Древером из Калифорнийского технологического института и Райнером Вайссом из Массачусетского технологического института
В своей книге К. Торн задается вопросом: как люди на Земле смогли обнаружить «червоточину» возле Сатурна, ведь она очень мала (около 1 км в диаметре) и не видна в телескопы? В фильме объяснения нет, но для себя ученый нашел ответ — LIGO, установка, построенная для детектирования гравитационных волн и в 2015 году впервые зафиксировавшая слияние двух черных дыр, тем самым подтвердив предположение А. Эйнштейна. Один из авторов проекта — сам К. Торн, за это он и получил Нобелевскую премию в 2017 году. Как связаны гравитационные волны и «червоточины»?
Гравитационные волны — это возмущения пространства-времени, вызванные событиями чудовищного масштаба, такими как столкновения (слияния) черных дыр между собой, а также с нейтронными звездами. Сама по себе ЧД, даже сверхмассивная, гравитационные волны никуда не отправляет.
К. Торн в своей книге пишет, что в первоначальной версии сценария профессор Брэнд работал заместителем директора проекта LIGO. Установка засекла повторяющиеся гравитационные волны, исходившие из окрестностей Сатурна. Видимо, они проходили через «червоточину», имея своим источником какие-то чрезвычайно удаленные события.
Однако сомнительно, что профессору Брэнду помогла бы установка LIGO — она недостаточно чувствительна для этого (при всем уважении к К. Торну и его Нобелевской премии). Поясню, как детектируются гравитационные волны. LIGO — это два перпендикулярных тоннеля длинной 4 км каждый, внутри которых бегает лазер: когда через установку проходит гравитационная волна, одно плечо слегка удлиняется, а другое, наоборот, укорачивается. Лазерный луч реагирует на эти события, и таким образом мы фиксируем проходящую гравитационную волну. («Слегка», которое здесь фигурирует, — настоящий технологический вызов, но это отдельная тема.)
Гравитационные волны — это возмущения пространства-времени, вызванные событиями чудовищного масштаба, такими как столкновения (слияния) черных дыр между собой, а также с нейтронными звездами. Сама по себе ЧД, даже сверхмассивная, гравитационные волны никуда не отправляет.
К. Торн в своей книге пишет, что в первоначальной версии сценария профессор Брэнд работал заместителем директора проекта LIGO. Установка засекла повторяющиеся гравитационные волны, исходившие из окрестностей Сатурна. Видимо, они проходили через «червоточину», имея своим источником какие-то чрезвычайно удаленные события.
Однако сомнительно, что профессору Брэнду помогла бы установка LIGO — она недостаточно чувствительна для этого (при всем уважении к К. Торну и его Нобелевской премии). Поясню, как детектируются гравитационные волны. LIGO — это два перпендикулярных тоннеля длинной 4 км каждый, внутри которых бегает лазер: когда через установку проходит гравитационная волна, одно плечо слегка удлиняется, а другое, наоборот, укорачивается. Лазерный луч реагирует на эти события, и таким образом мы фиксируем проходящую гравитационную волну. («Слегка», которое здесь фигурирует, — настоящий технологический вызов, но это отдельная тема.)
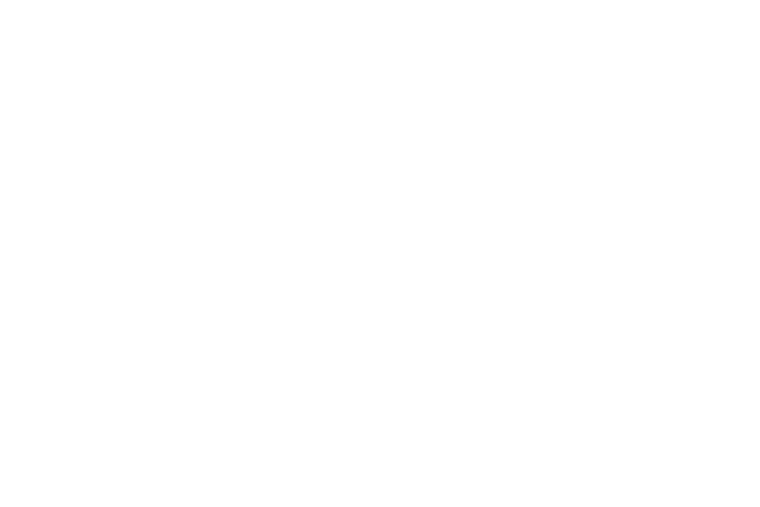
Ученые в лаборатории LIGO
Сейчас Европейское космическое агентство планирует создать бoлее чувствительный детектор гравитационных волн в космосе — отправить туда три спутника, которые выстроятся в равносторонний треугольник со стороной 2,5 млн км. Потребуется чрезвычайно точно измерять расстояния между спутниками и вылавливать эффекты, вызванные не приливными силами, а прохождением гравитационных волн. Установка будет называться LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Если гравитационные детекторы и смогут засекать такие незначительные колебания, какие описал К. Торн, то это будет LISA. Правда, ее запуск намечен на 2035 год, но и события в «Интерстелларе» происходят не в 2025 году.
Смертельное падение не смертельно
По дороге к планете Эдмундса корабль «Эндюрэнс» рискует провалиться в черную дыру. Чтобы спасти корабль, Купер жертвует собой, катапультируясь вместе с роботом. Кажется, что он идет на верную гибель. Но герои остаются в живых. Как это возможно? Что происходит с человеком, если он падает на черную дыру?
Приближение к центру невращающейся (шварцшильдовской) ЧД однозначно означает конец (включая конец времени). У вращающейся (керровской) ЧД, помимо уже знакомого нам горизонта событий, есть еще и внутренний горизонт. Преодолев его, космический корабль не обязательно стремится к сингулярности. Там в принципе возможны даже устойчивые орбиты. В частности, об этом писал российский физик из Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев. В своей статье он прямо заявил, что внутри сверхмассивных ЧД могут существовать и развиваться цивилизации, невидимые снаружи. То есть, если пофантазировать, Купер с запасом продуктов и кислорода вполне мог бы провести там некоторое время.
Сингулярность вращающейся черной дыры — не точка, а кольцо. Дальше идут смелые интерпретации математических свойств керровской ЧД. Одна из них: если пролететь сквозь кольцо сингулярности, можно попасть в другую вселенную или даже в свою собственную, но с немалым сдвигом во времени (то есть это машина времени, направленная вперед).
Стабильные орбиты внутри вращающейся ЧД — следствие общей теории относительности, но только в том случае, когда во всей Вселенной, кроме этой черной дыры, больше ничего нет. Это, конечно, не более чем приближение к реальности («они находятся очень далеко» — нередко неплохое приближение к «их нет»). Но в реальной Вселенной вещество и излучение, падающие в керровскую черную дыру, попадают в область вблизи сингулярности, получив колоссальную энергию в результате своего падения. Известные нам поля находятся там в достаточно диких и неустойчивых состояниях, что полностью исключает возможность устойчивых орбит.
По дороге к планете Эдмундса корабль «Эндюрэнс» рискует провалиться в черную дыру. Чтобы спасти корабль, Купер жертвует собой, катапультируясь вместе с роботом. Кажется, что он идет на верную гибель. Но герои остаются в живых. Как это возможно? Что происходит с человеком, если он падает на черную дыру?
Приближение к центру невращающейся (шварцшильдовской) ЧД однозначно означает конец (включая конец времени). У вращающейся (керровской) ЧД, помимо уже знакомого нам горизонта событий, есть еще и внутренний горизонт. Преодолев его, космический корабль не обязательно стремится к сингулярности. Там в принципе возможны даже устойчивые орбиты. В частности, об этом писал российский физик из Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев. В своей статье он прямо заявил, что внутри сверхмассивных ЧД могут существовать и развиваться цивилизации, невидимые снаружи. То есть, если пофантазировать, Купер с запасом продуктов и кислорода вполне мог бы провести там некоторое время.
Сингулярность вращающейся черной дыры — не точка, а кольцо. Дальше идут смелые интерпретации математических свойств керровской ЧД. Одна из них: если пролететь сквозь кольцо сингулярности, можно попасть в другую вселенную или даже в свою собственную, но с немалым сдвигом во времени (то есть это машина времени, направленная вперед).
Стабильные орбиты внутри вращающейся ЧД — следствие общей теории относительности, но только в том случае, когда во всей Вселенной, кроме этой черной дыры, больше ничего нет. Это, конечно, не более чем приближение к реальности («они находятся очень далеко» — нередко неплохое приближение к «их нет»). Но в реальной Вселенной вещество и излучение, падающие в керровскую черную дыру, попадают в область вблизи сингулярности, получив колоссальную энергию в результате своего падения. Известные нам поля находятся там в достаточно диких и неустойчивых состояниях, что полностью исключает возможность устойчивых орбит.
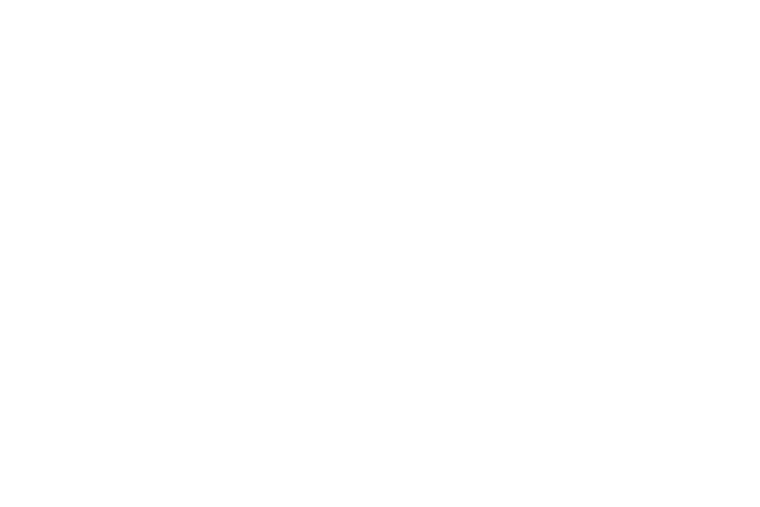
Мэттью Макконахи в роли инженера Джозефа Купера в фильме «Интерстеллар»
Высшие измерения
Конечно, самая большая загадка фильма — куда попал Купер. Падая в черную дыру, он оказался в каком-то месте, откуда с помощью книг передал сообщение дочери на Землю. К. Торн поясняет, что Купер покинул пределы трехмерного пространства и оказался в другом измерении. Согласно теории суперструн, существует девять пространственных измерений, но авторы фильма пошли на упрощение: герой попадает в четырехмерное пространство. Вероятно, там иная материя, состоящая не из привычных нам атомов (К. Торн намекает, что темная материя и темная энергия, возможно, как раз гравитационные проявления иных измерений). Герои фильма: профессор Брэнд, а затем и дочь Купера Мерф — пытаются понять, как управлять гравитацией, чтобы спасти человечество. И полагают, что ответ — сингулярность, существующая в черной дыре. Что это такое? И как сингулярность может уменьшить силу притяжения Земли, чтобы позволить людям покинуть умирающую планету?
Сингулярность — это не столько явление, сколько наше незнание о нем. Это те «локации», где наши уравнения сходят с ума, так что нам остается лишь гадать о том, что же на самом деле там происходит. В классической черной дыре К. Шварцшильда это точка, а для вращающихся ЧД Р. П. Керра — кольцо. Строго говоря, они не принадлежат нашему пространству-времени, как оно понимается в общей теории относительности. Для объяснения происходящего там, видимо, требуется квантовое обобщение этой теории, но оно нам пока недоступно. Недоступно оно и героям фильма, по крайней мере в его начале. Часть сюжета состоит в том, что для полного построения теории квантовой гравитации героям как раз и требуются «квантовые данные» — какие-то подробности происходящего вблизи сингулярности. А теория квантовой гравитации нужна героям, оказывается, для управления гравитацией — в том числе, что примечательно, работающей не в квантовом режиме, а во вполне невинных условиях нашего пространства-времени, где, как известно, классическая теория гравитации справляется очень неплохо.
Это, пожалуй, самая сырая часть сценария. Герои находятся в цейтноте: им нужно успеть спасти человечество, поэтому от открытия в теоретической физике (в фильме не раз демонстрируется, что речь идет об уравнениях) требуется почти мгновенный практический эффект, по существу — создание сверхпродвинутой технологии. Представить себе такое нелегко, при всей возможной революционности новой теории и всех чудесах уже созданных технологий. Кроме того, непонятно, что могли бы представлять собой «квантовые данные», которые можно «собрать», пролетев рядом с сингулярностью. Небольшой серии измерений достаточно, чтобы уверенно и однозначно модифицировать уравнения? Кстати, уравнения на досках, в блокнотах и на прочих поверхностях — это настоящие формулы, их писали физики, помогавшие К. Торну на съемочной площадке.
Однако не будем забывать, что мы обсуждаем фильм. Окрестности сингулярности надо как-то показать. (О том, что необычные эффекты должны проявлять себя на расстояниях в сотни миллиардов раз меньших, чем те, на которых мы сейчас в состоянии «прощупать» структуру элементарных частиц, я предлагаю не вспоминать.) «Сердцевина» черной дыры объявлена в фильме четырехмерным пространством, или, во всяком случае, «выходом» в это пространство. В качестве четвертого измерения выступает не время, а просто еще одна характеристика пространства.
В фильме произносится название четырехмерного куба — "тессеракт"; Купер, по-видимому, вышел из трехмерия и каким-то образом функционирует внутри этого тессеракта. Вообще-то положение его должно быть бедственным, как это видно из аналогии на единицу меньшей размерности. Представим себе двухмерных существ, живущих на листе бумаги. Кожа такого существа — это контур, нарисованный карандашом или ручкой. Другое существо, нарисованное на том же листе бумаги, может дотронуться до этой «кожи». Но вы-то можете поставить карандашом отметку в любой точке внутри каждого из них. Со стороны чуждого им третьего измерения эти двухмерные существа ничем не защищены. С трехмерным Купером, оказавшимся в четырехмерии, ситуация должна быть точно такой же, но, конечно, ничего подобного в фильме нет. Зато сам тессеракт, представить который во всей его четырехмерной полноте нам не дано, показан как гениально-безумное нагромождение линий и каких-то еще структур.
И сюда же имплантировано интересное соотношение пространства и времени. Мы видим, что перемещение внутри тессеракта (которое надо считать пространственным) имеет характер перемещения во времени: передвигаясь вправо-влево, Купер видит свою дочь Мерф в разные моменты времени (для наглядности моменты превращены в отрезки продолжительностью с рекламные ролики). Помимо того, что это обстоятельство служит опорой сюжета, я воспринимаю его как отголосок определенного свойства черных дыр. Под горизонтом черной дыры (для простоты, шварцшильдовской) время падающего наблюдателя выстраивается вдоль ее радиуса; центр ее (сингулярность) из точки в пространстве превращается для него в момент будущего времени (неизбежность наступления которого, вне зависимости от того, сколь мощная у него ракета, и выражает неотвратимость попадания в сингулярность).
Вопрос о том, почему Купер в доступных ему «роликах» видит именно комнату своей дочери, я предлагаю переадресовать сценаристам.
Конечно, самая большая загадка фильма — куда попал Купер. Падая в черную дыру, он оказался в каком-то месте, откуда с помощью книг передал сообщение дочери на Землю. К. Торн поясняет, что Купер покинул пределы трехмерного пространства и оказался в другом измерении. Согласно теории суперструн, существует девять пространственных измерений, но авторы фильма пошли на упрощение: герой попадает в четырехмерное пространство. Вероятно, там иная материя, состоящая не из привычных нам атомов (К. Торн намекает, что темная материя и темная энергия, возможно, как раз гравитационные проявления иных измерений). Герои фильма: профессор Брэнд, а затем и дочь Купера Мерф — пытаются понять, как управлять гравитацией, чтобы спасти человечество. И полагают, что ответ — сингулярность, существующая в черной дыре. Что это такое? И как сингулярность может уменьшить силу притяжения Земли, чтобы позволить людям покинуть умирающую планету?
Сингулярность — это не столько явление, сколько наше незнание о нем. Это те «локации», где наши уравнения сходят с ума, так что нам остается лишь гадать о том, что же на самом деле там происходит. В классической черной дыре К. Шварцшильда это точка, а для вращающихся ЧД Р. П. Керра — кольцо. Строго говоря, они не принадлежат нашему пространству-времени, как оно понимается в общей теории относительности. Для объяснения происходящего там, видимо, требуется квантовое обобщение этой теории, но оно нам пока недоступно. Недоступно оно и героям фильма, по крайней мере в его начале. Часть сюжета состоит в том, что для полного построения теории квантовой гравитации героям как раз и требуются «квантовые данные» — какие-то подробности происходящего вблизи сингулярности. А теория квантовой гравитации нужна героям, оказывается, для управления гравитацией — в том числе, что примечательно, работающей не в квантовом режиме, а во вполне невинных условиях нашего пространства-времени, где, как известно, классическая теория гравитации справляется очень неплохо.
Это, пожалуй, самая сырая часть сценария. Герои находятся в цейтноте: им нужно успеть спасти человечество, поэтому от открытия в теоретической физике (в фильме не раз демонстрируется, что речь идет об уравнениях) требуется почти мгновенный практический эффект, по существу — создание сверхпродвинутой технологии. Представить себе такое нелегко, при всей возможной революционности новой теории и всех чудесах уже созданных технологий. Кроме того, непонятно, что могли бы представлять собой «квантовые данные», которые можно «собрать», пролетев рядом с сингулярностью. Небольшой серии измерений достаточно, чтобы уверенно и однозначно модифицировать уравнения? Кстати, уравнения на досках, в блокнотах и на прочих поверхностях — это настоящие формулы, их писали физики, помогавшие К. Торну на съемочной площадке.
Однако не будем забывать, что мы обсуждаем фильм. Окрестности сингулярности надо как-то показать. (О том, что необычные эффекты должны проявлять себя на расстояниях в сотни миллиардов раз меньших, чем те, на которых мы сейчас в состоянии «прощупать» структуру элементарных частиц, я предлагаю не вспоминать.) «Сердцевина» черной дыры объявлена в фильме четырехмерным пространством, или, во всяком случае, «выходом» в это пространство. В качестве четвертого измерения выступает не время, а просто еще одна характеристика пространства.
В фильме произносится название четырехмерного куба — "тессеракт"; Купер, по-видимому, вышел из трехмерия и каким-то образом функционирует внутри этого тессеракта. Вообще-то положение его должно быть бедственным, как это видно из аналогии на единицу меньшей размерности. Представим себе двухмерных существ, живущих на листе бумаги. Кожа такого существа — это контур, нарисованный карандашом или ручкой. Другое существо, нарисованное на том же листе бумаги, может дотронуться до этой «кожи». Но вы-то можете поставить карандашом отметку в любой точке внутри каждого из них. Со стороны чуждого им третьего измерения эти двухмерные существа ничем не защищены. С трехмерным Купером, оказавшимся в четырехмерии, ситуация должна быть точно такой же, но, конечно, ничего подобного в фильме нет. Зато сам тессеракт, представить который во всей его четырехмерной полноте нам не дано, показан как гениально-безумное нагромождение линий и каких-то еще структур.
И сюда же имплантировано интересное соотношение пространства и времени. Мы видим, что перемещение внутри тессеракта (которое надо считать пространственным) имеет характер перемещения во времени: передвигаясь вправо-влево, Купер видит свою дочь Мерф в разные моменты времени (для наглядности моменты превращены в отрезки продолжительностью с рекламные ролики). Помимо того, что это обстоятельство служит опорой сюжета, я воспринимаю его как отголосок определенного свойства черных дыр. Под горизонтом черной дыры (для простоты, шварцшильдовской) время падающего наблюдателя выстраивается вдоль ее радиуса; центр ее (сингулярность) из точки в пространстве превращается для него в момент будущего времени (неизбежность наступления которого, вне зависимости от того, сколь мощная у него ракета, и выражает неотвратимость попадания в сингулярность).
Вопрос о том, почему Купер в доступных ему «роликах» видит именно комнату своей дочери, я предлагаю переадресовать сценаристам.
Почерк гравитации
К. Торн в своей книге упоминает, что на площадке присутствовали ассистенты, помогавшие ему консультировать актеров и съемочную группу. В частности, с исполнительницей роли взрослой Мерф Джессикой Честейн работала россиянка Елена Мурчикова. Выпускница МГУ, она оказалась в Калифорнийском технологическом институте, где работает К. Торн. На вопрос о том, как она попала на съемки, Елена в интервью газете «Троицкий вариант — Наука» (№ 23 [167], 18 ноября 2014 г.) отвечает так: «Кип искал девушку с хорошим почерком, которая разбиралась бы и в струнах, и в гравитации. Оказалось, вариантов не так уж много». Почерк упомянут не зря: именно Елена исписала блокноты Мерф, ее записи даже появляются в кадре.
Возможно, что самый «ненаучный» элемент фильма — машина времени: как Купер передает сообщение из будущего своей маленькой дочери? Сразу после выхода фильма физики и журналисты писали, что К. Нолан и его консультант явно отошли от науки. Однако в своей книге К. Торн объясняет, что советский физик Игорь Новиков в 1988 году утверждал: «червоточина» может быть машиной времени. О чем речь? Что открыл И. Новиков?
Здесь сразу несколько аспектов. Во-первых, Купер, находящийся вне нашего пространства-времени, лишен обычных средств контакта с происходящим в нем. Правда, в таком случае он не должен воспринимать и электромагнитное излучение, выходящее из комнаты Мерф, то есть, попросту говоря, не должен ничего видеть; но этот ляп мы также простим сценаристам. На правах главного героя Купер находит способ влиять на происходящее в комнате: он передает сигнал из своего многомерия с помощью гравитации. Здесь явный намек на «мир на бране» (это термин из теории струн, обозначающий объект меньшей размерности в более многомерном пространстве). Когда создавался сценарий фильма, среди ряда теоретиков еще была популярна идея, что наше трехмерное пространство может быть чем-то вроде мембраны внутри пространства большей размерности. Возьмите лист бумаги за край и поднимите его над столом: получится «мембрана» в трехмерном пространстве. О нашем пространстве, подобным же образом вложенном во что-то более многомерное, стали говорить как о трехмерной бране, а затем в обиход вошло слово «брана». Гипотеза о «мире на бране» состояла в том, что электромагнитные взаимодействия, слабые и сильные, ограничены браной (так что Купер, и правда, ничего не может видеть), но гравитация действует во всем объеме; такие соображения привлекались и для объяснения слабости гравитации по сравнению с только что упомянутыми другими взаимодействиями: гравитация «утекает» из браны наружу.
Итак, Купер воздействует на «мир на бране» (мир более низкой размерности) гравитационно. Например, сдвигает книги на полках. Мы, правда, еще не забыли, насколько слаба гравитация: да, у нас она привычным образом «двигает» книгу, выпущенную из рук — заставляет ее падать. Но источник гравитации здесь — целая планета. Свойства гравитации в многомерном пространстве должны быть поистине удивительными для того, чтобы Купер, размахивая руками, мог вызвать гравитационное воздействие на книги в комнате Мерф.
Что касается путешествий во времени, то даже физикам не хочется их «запрещать». Отправить в прошлое в принципе могут «червоточины» («кротовые норы») — если, конечно, они существуют. Для этого время вблизи входа должно убежать вперед по сравнению со временем вблизи выхода. Два способа добиться этого: поместить выход вблизи черной дыры, где сильная гравитация замедляет время (а вход — подальше, где гравитация почти не чувствуется); или же разогнать выход до значительной скорости. Путешествие в свое собственное прошлое — источник известного «парадокса бабушки» (тем или иным способом помешать бабушке и дедушке произвести на свет одного из своих родителей и тем самым сделать свое собственное существование невозможным).
В ответ наш соотечественник И. Новиков (бывший соавтором К. Торна в 1980‑х) сформулировал принцип самосогласованности: если кто-то отправится в прошлое, то не сможет изменить события так, чтобы создать логический парадокс, потому что любое событие, произошедшее в прошлом, уже есть часть истории. Нанести непоправимый вред дедушке или бабушке или их отношениям так или иначе окажется невозможным. С влиянием Купера на свое (и Мерф) прошлое из четырехмерия, наверное, ситуация более запутанная; так или иначе, он организовал причинно-следственный круг: его действия в четырехмерном будущем стали причиной событий, развитие которых привело его в четырехмерие. Некоторое удивление при этом вызывают его эмоции, когда он наблюдает за Мерф в прошлом («Не дай мне уйти!») — ведь он уже знает, что и как случилось. Кстати, зачем вообще он выбрал такой неочевидный способ действий — сообщать координаты подростку? Мог бы прямо передать всю нужную информацию самому себе из прошлого.
Здесь сразу несколько аспектов. Во-первых, Купер, находящийся вне нашего пространства-времени, лишен обычных средств контакта с происходящим в нем. Правда, в таком случае он не должен воспринимать и электромагнитное излучение, выходящее из комнаты Мерф, то есть, попросту говоря, не должен ничего видеть; но этот ляп мы также простим сценаристам. На правах главного героя Купер находит способ влиять на происходящее в комнате: он передает сигнал из своего многомерия с помощью гравитации. Здесь явный намек на «мир на бране» (это термин из теории струн, обозначающий объект меньшей размерности в более многомерном пространстве). Когда создавался сценарий фильма, среди ряда теоретиков еще была популярна идея, что наше трехмерное пространство может быть чем-то вроде мембраны внутри пространства большей размерности. Возьмите лист бумаги за край и поднимите его над столом: получится «мембрана» в трехмерном пространстве. О нашем пространстве, подобным же образом вложенном во что-то более многомерное, стали говорить как о трехмерной бране, а затем в обиход вошло слово «брана». Гипотеза о «мире на бране» состояла в том, что электромагнитные взаимодействия, слабые и сильные, ограничены браной (так что Купер, и правда, ничего не может видеть), но гравитация действует во всем объеме; такие соображения привлекались и для объяснения слабости гравитации по сравнению с только что упомянутыми другими взаимодействиями: гравитация «утекает» из браны наружу.
Итак, Купер воздействует на «мир на бране» (мир более низкой размерности) гравитационно. Например, сдвигает книги на полках. Мы, правда, еще не забыли, насколько слаба гравитация: да, у нас она привычным образом «двигает» книгу, выпущенную из рук — заставляет ее падать. Но источник гравитации здесь — целая планета. Свойства гравитации в многомерном пространстве должны быть поистине удивительными для того, чтобы Купер, размахивая руками, мог вызвать гравитационное воздействие на книги в комнате Мерф.
Что касается путешествий во времени, то даже физикам не хочется их «запрещать». Отправить в прошлое в принципе могут «червоточины» («кротовые норы») — если, конечно, они существуют. Для этого время вблизи входа должно убежать вперед по сравнению со временем вблизи выхода. Два способа добиться этого: поместить выход вблизи черной дыры, где сильная гравитация замедляет время (а вход — подальше, где гравитация почти не чувствуется); или же разогнать выход до значительной скорости. Путешествие в свое собственное прошлое — источник известного «парадокса бабушки» (тем или иным способом помешать бабушке и дедушке произвести на свет одного из своих родителей и тем самым сделать свое собственное существование невозможным).
В ответ наш соотечественник И. Новиков (бывший соавтором К. Торна в 1980‑х) сформулировал принцип самосогласованности: если кто-то отправится в прошлое, то не сможет изменить события так, чтобы создать логический парадокс, потому что любое событие, произошедшее в прошлом, уже есть часть истории. Нанести непоправимый вред дедушке или бабушке или их отношениям так или иначе окажется невозможным. С влиянием Купера на свое (и Мерф) прошлое из четырехмерия, наверное, ситуация более запутанная; так или иначе, он организовал причинно-следственный круг: его действия в четырехмерном будущем стали причиной событий, развитие которых привело его в четырехмерие. Некоторое удивление при этом вызывают его эмоции, когда он наблюдает за Мерф в прошлом («Не дай мне уйти!») — ведь он уже знает, что и как случилось. Кстати, зачем вообще он выбрал такой неочевидный способ действий — сообщать координаты подростку? Мог бы прямо передать всю нужную информацию самому себе из прошлого.
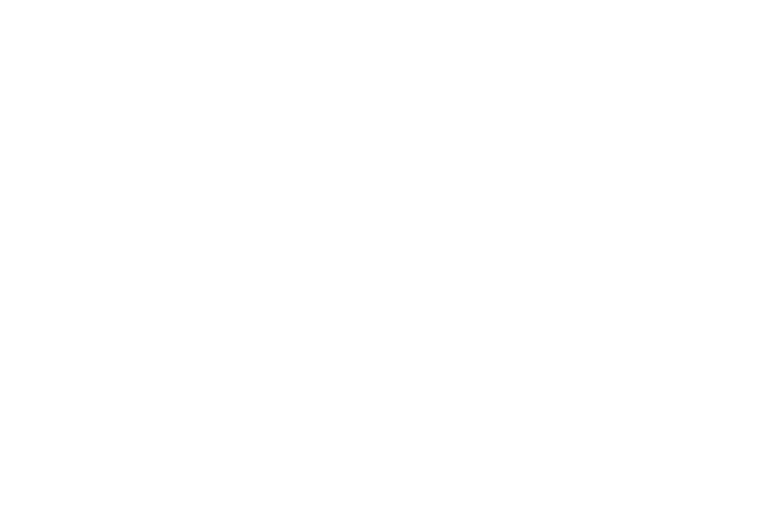
Все дело в Эйнштейне
И герои фильма, и К. Торн в своей книге постоянно упоминают общую теорию относительности. Именно она служила ориентиром для авторов: что возможно, что «полу-возможно», а что — чистая фантастика. Кажется, она не дает ответа только на один вопрос: Купера спасли существа из высших измерений, как считает робот ТАРС, или это люди познали тайну сингулярности (то есть квантовой гравитации) и научились управлять гравитацией и временем, потому и сумели спасти Купера в прошлом, как считает сам Купер. Тот случай, когда каждый зритель сам выбирает, какая версия ему ближе.
И герои фильма, и К. Торн в своей книге постоянно упоминают общую теорию относительности. Именно она служила ориентиром для авторов: что возможно, что «полу-возможно», а что — чистая фантастика. Кажется, она не дает ответа только на один вопрос: Купера спасли существа из высших измерений, как считает робот ТАРС, или это люди познали тайну сингулярности (то есть квантовой гравитации) и научились управлять гравитацией и временем, потому и сумели спасти Купера в прошлом, как считает сам Купер. Тот случай, когда каждый зритель сам выбирает, какая версия ему ближе.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

