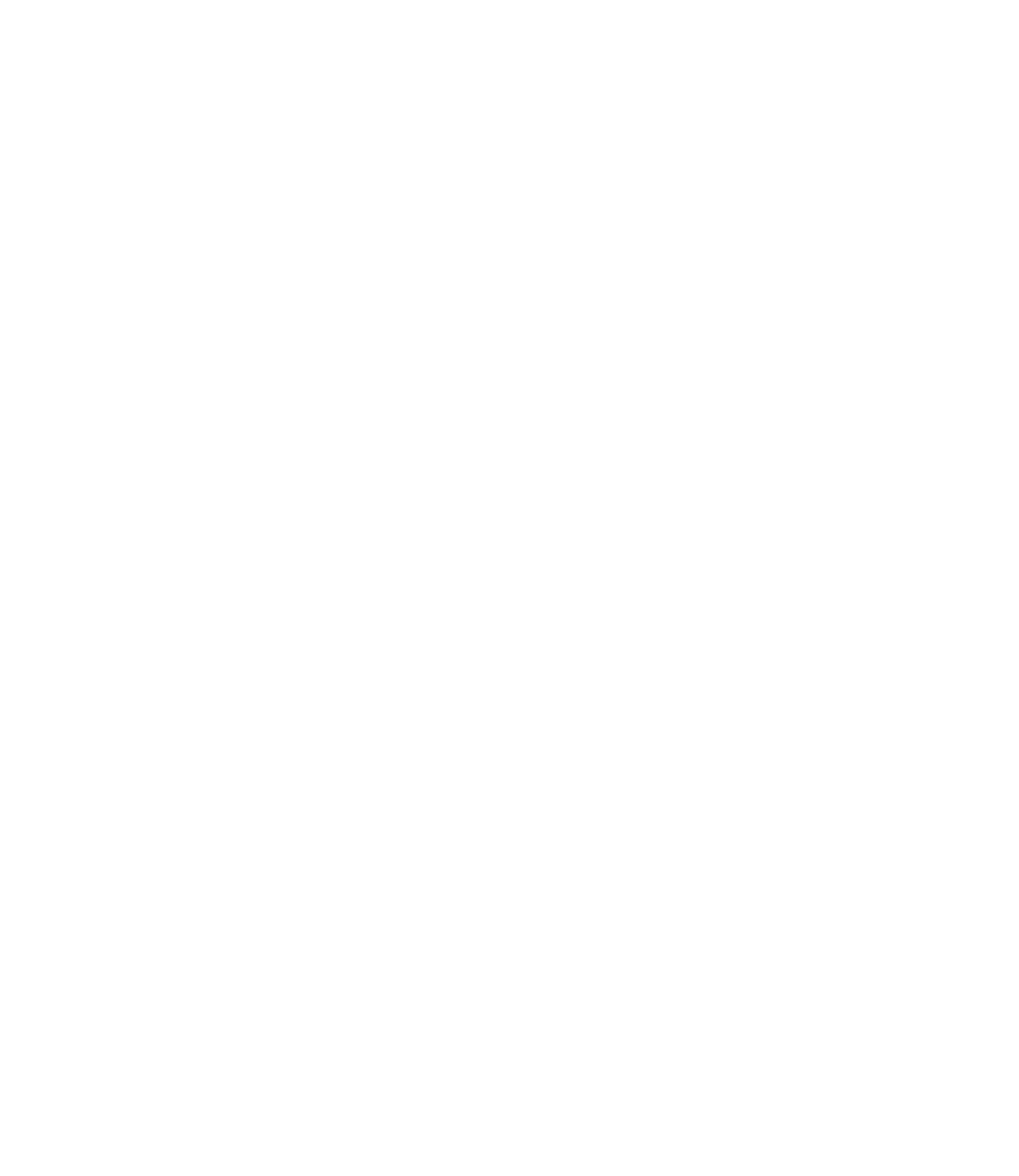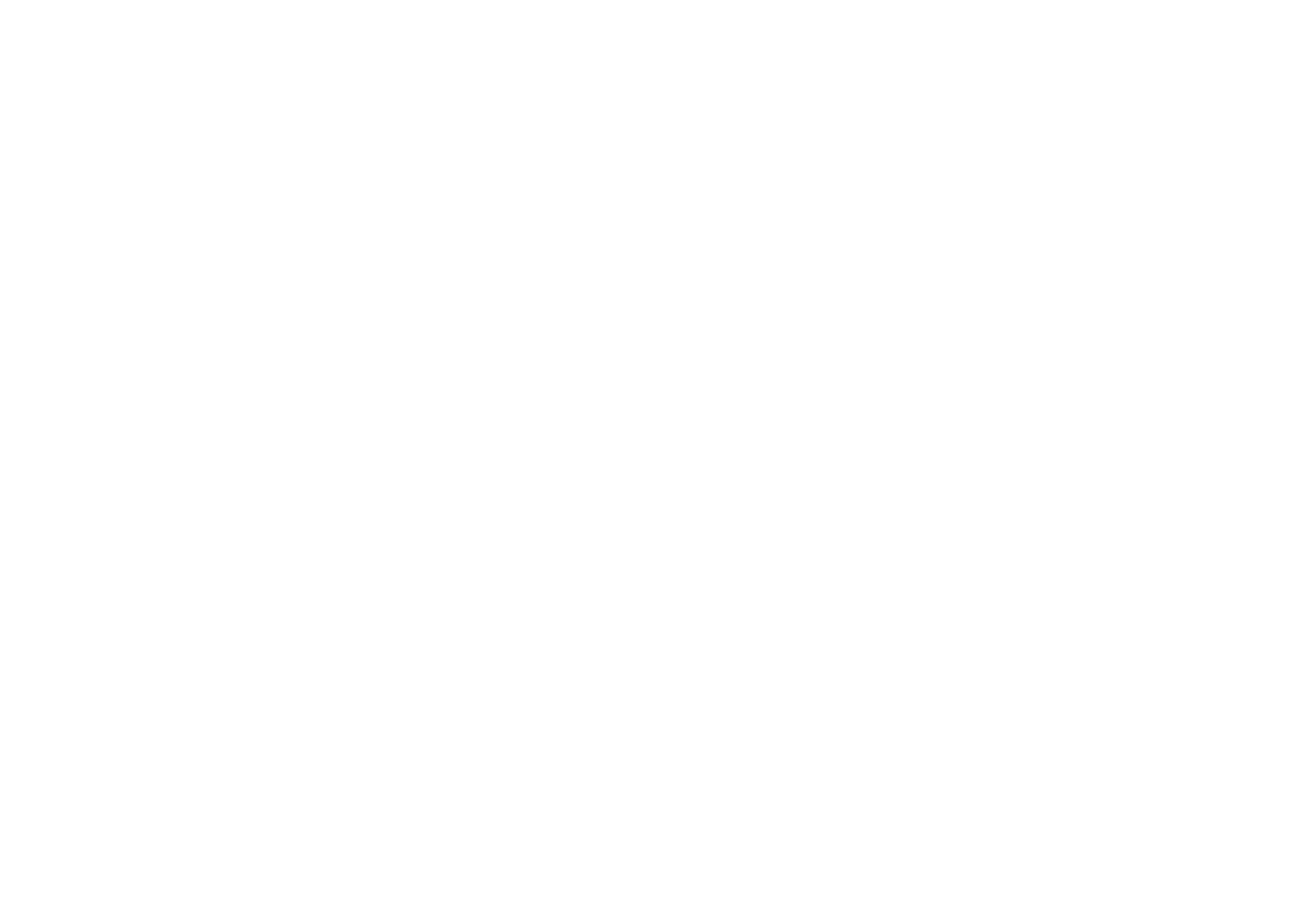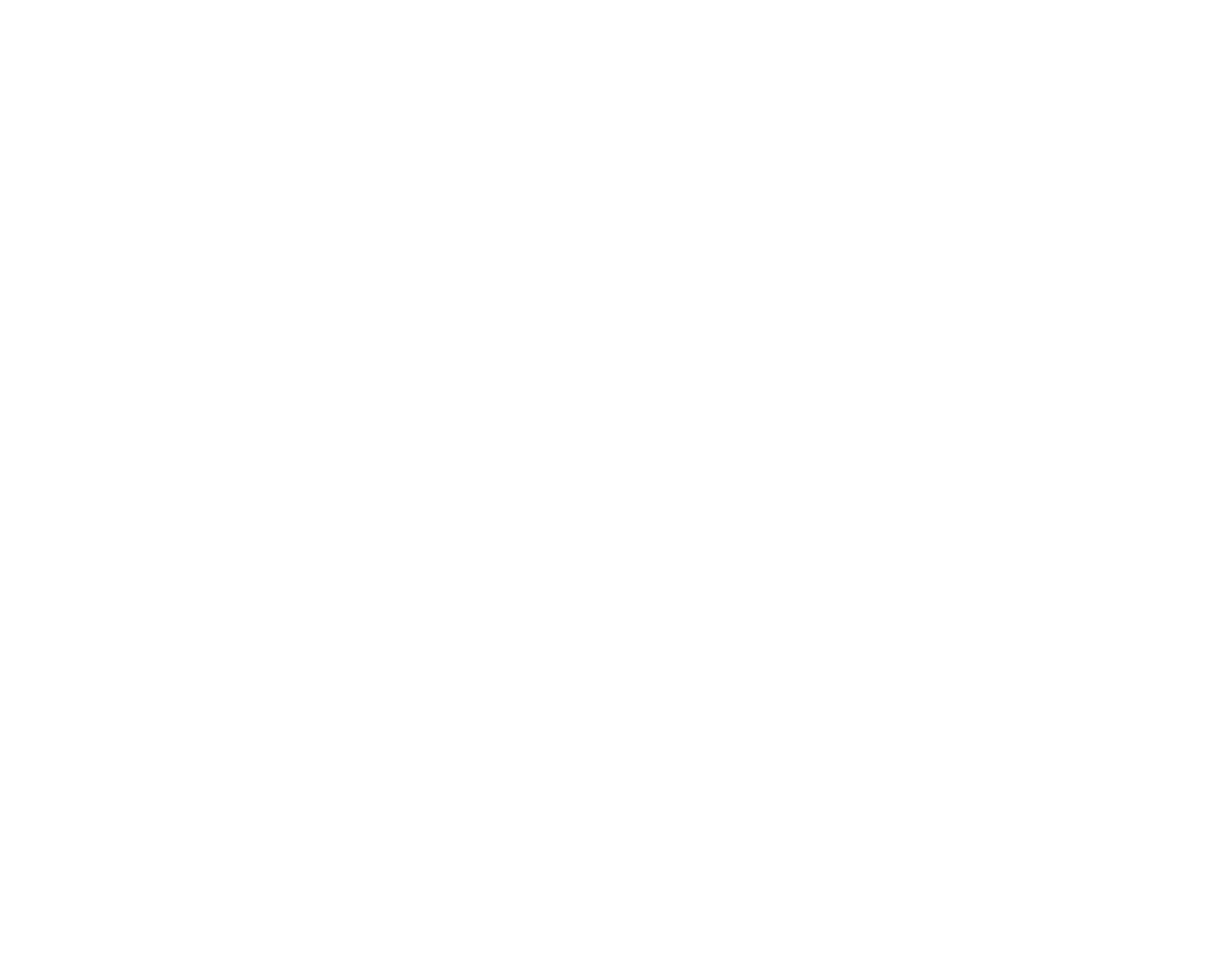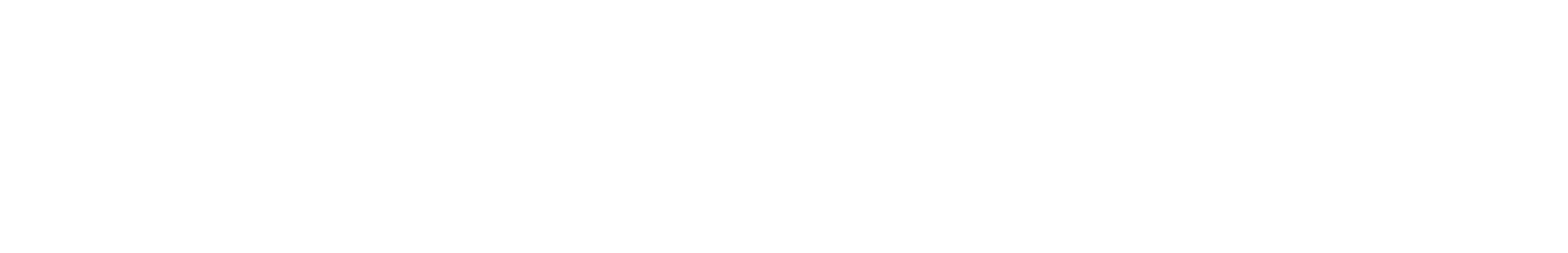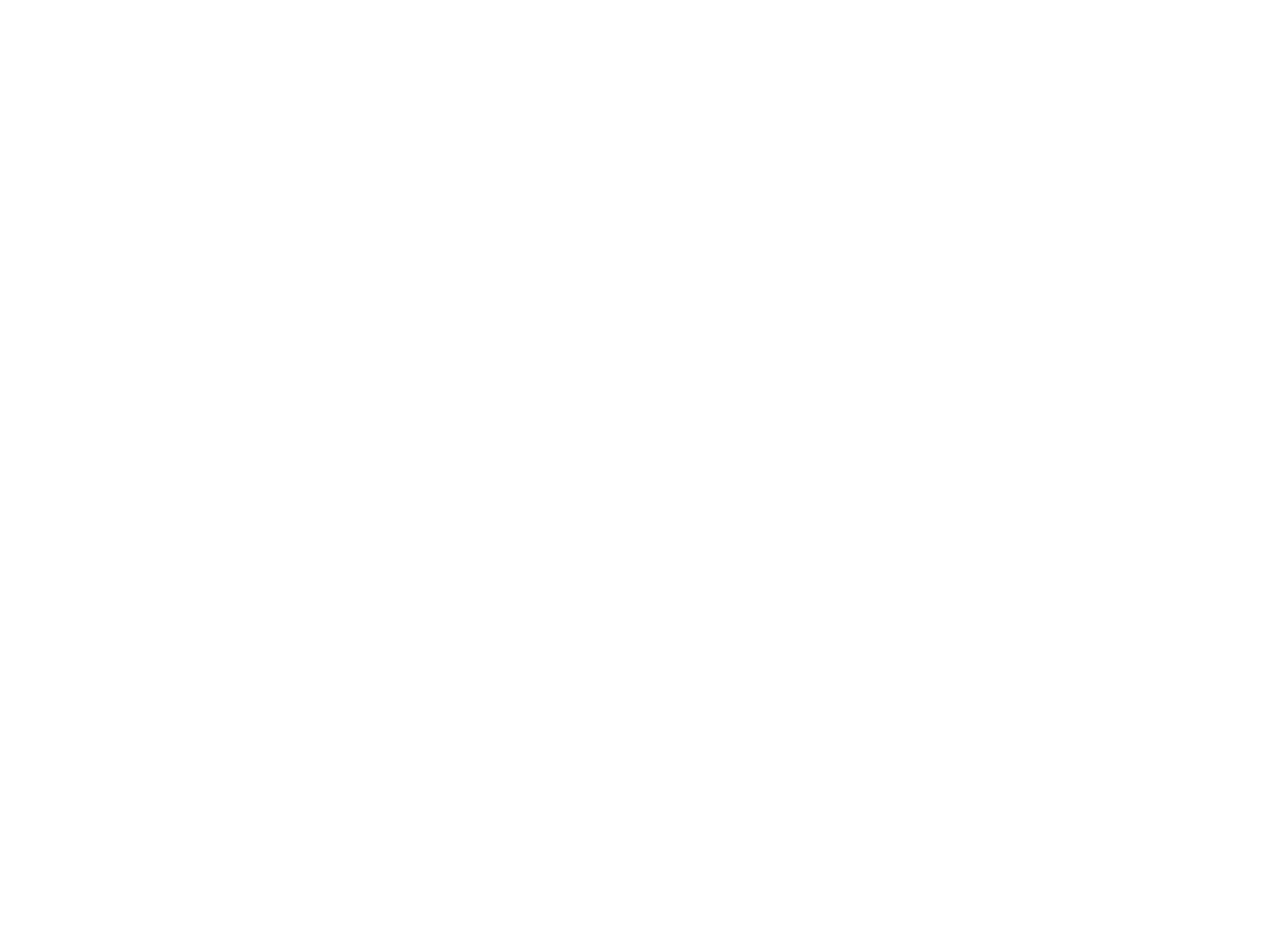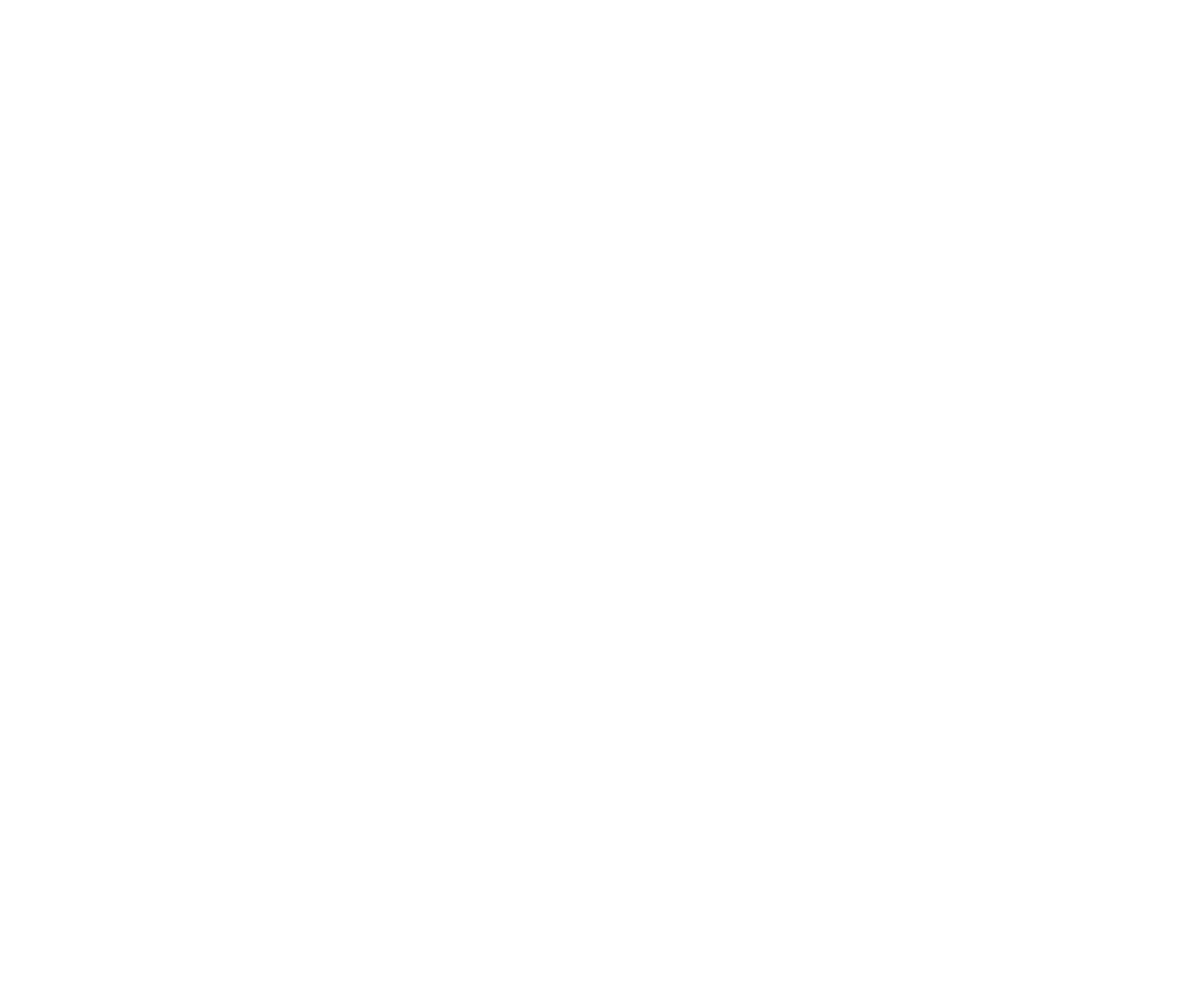Суверенные занавесы
ОБЗОР / #6_2025
Текст: Наталия АНДРЕЕВА / Фото: Midjourney, Wikipedia, Росатом
В последние три года многие страны мира делают ставку на технологический суверенитет. Попытаемся понять, насколько российская версия «техсуверенитета/ технологического лидерства» в тренде и с какими вопросами развития науки и технологий нам предстоит разобраться.
Технологический суверенитет, конечно же, не российский, не имеющий аналогов в мире концепт; это фактически универсальный тренд в научной, технологической и инновационной политике последних лет.
Китай сделал ставку на технологическую независимость уже давно (в частности, цель снижения зависимости от импортных технологий до 30 % была поставлена еще в 2006 году); в 2021−2023 годах процесс получил логичное продолжение, соответствующее новым геополитическим реалиям: «опора на собственные силы» была сделана основным приоритетом научно-технологического развития (решение сессии 14‑го созыва Собрания народных представителей, 2021 год) и заложена в план на 14‑ю пятилетку; в 2023 году началась централизация управления технологическим развитием и заодно — пересборка ряда технологических политик.
США включились в историю с техсуверенитетом в 2022 году: именно тогда администрацией Джо Байдена был утвержден первый официальный перечень критических и новых технологий (как альтернатива заметенной под ковер «Стратегии развития критических и новых технологий», принятой предыдущей администрацией); в 2023 году в стране появилась Стратегия развития науки и технологий для нужд обороны (National Defense Science and Technology Strategy); последняя версия общестранового перечня была утверждена в 2024 году.
Из европейских стран раньше всего вопросами технологического суверенитета занялась Германия: в 2021 году в ней была принята концепция «Технологический суверенитет для будущего», в 2025 году превратившаяся в общенациональную рамочную программу «Наука и инновации для технологического суверенитета 2030» (Research and Innovation for Technological Sovereignty Framework Programme).
Евросоюз начал двигаться в сторону техсуверенитета в 2023 году («Критические технологические направления для экономической безопасности Евросоюза») и окончательно определился с технологической стратегией и "суверенными" приоритетами в 2024‑м, создав платформу «Стратегические технологии для Европы» (в числе прочего, для перераспределения научно-технологического финансирования в рамках существующих программ: Horizon Europe, Digital Europe Рrogramme, европейского Оборонного фонда и пр.).
Примерно в это же время приняла официальные планы относительно достижения технологического суверенитета Республика Корея: в 2024 году был утвержден Первый мастер-план развития критических и новых технологий (2024−2028) для национального суверенитета в области науки и технологий.
Общее беспокойство и попытки переориентировать национальную технологическую политику в направлении критических и новых технологий вполне обоснованны. Санкции и торговые войны уже 10 с лишним лет демонстрируют всем, что «технологические гегемоны» — Китай и США — вполне могут перекрыть метафорический кран тем, кому захотят, а проблем с технологиями все больше.
Китай сделал ставку на технологическую независимость уже давно (в частности, цель снижения зависимости от импортных технологий до 30 % была поставлена еще в 2006 году); в 2021−2023 годах процесс получил логичное продолжение, соответствующее новым геополитическим реалиям: «опора на собственные силы» была сделана основным приоритетом научно-технологического развития (решение сессии 14‑го созыва Собрания народных представителей, 2021 год) и заложена в план на 14‑ю пятилетку; в 2023 году началась централизация управления технологическим развитием и заодно — пересборка ряда технологических политик.
США включились в историю с техсуверенитетом в 2022 году: именно тогда администрацией Джо Байдена был утвержден первый официальный перечень критических и новых технологий (как альтернатива заметенной под ковер «Стратегии развития критических и новых технологий», принятой предыдущей администрацией); в 2023 году в стране появилась Стратегия развития науки и технологий для нужд обороны (National Defense Science and Technology Strategy); последняя версия общестранового перечня была утверждена в 2024 году.
Из европейских стран раньше всего вопросами технологического суверенитета занялась Германия: в 2021 году в ней была принята концепция «Технологический суверенитет для будущего», в 2025 году превратившаяся в общенациональную рамочную программу «Наука и инновации для технологического суверенитета 2030» (Research and Innovation for Technological Sovereignty Framework Programme).
Евросоюз начал двигаться в сторону техсуверенитета в 2023 году («Критические технологические направления для экономической безопасности Евросоюза») и окончательно определился с технологической стратегией и "суверенными" приоритетами в 2024‑м, создав платформу «Стратегические технологии для Европы» (в числе прочего, для перераспределения научно-технологического финансирования в рамках существующих программ: Horizon Europe, Digital Europe Рrogramme, европейского Оборонного фонда и пр.).
Примерно в это же время приняла официальные планы относительно достижения технологического суверенитета Республика Корея: в 2024 году был утвержден Первый мастер-план развития критических и новых технологий (2024−2028) для национального суверенитета в области науки и технологий.
Общее беспокойство и попытки переориентировать национальную технологическую политику в направлении критических и новых технологий вполне обоснованны. Санкции и торговые войны уже 10 с лишним лет демонстрируют всем, что «технологические гегемоны» — Китай и США — вполне могут перекрыть метафорический кран тем, кому захотят, а проблем с технологиями все больше.
Количество новых государственных мер, ограничивающих торговые операции, в мире
Во-первых, критических и новых технологий не просто много, а очень много: в зависимости от классификации, до 100 разных групп, причем отнюдь не мелких (например, ИИ, включающий всё: и вычислительные мощности, и технологии передачи и обработки данных, и математическое моделирование, и что только не). И далеко не у всех стран есть профильные научные центры, научные школы, заинтересованная промышленность и прочие институты, необходимые для получения этих технологий.
Во-вторых, технологии — не только интеллектуальная собственность/ноу-хау; это, в первую очередь, инфраструктура в самом широком смысле: физическая для использования продуктов на базе технологий (дата-центры; электрозаправки; спутниковая связь и пр.), для исследований и разработок, от лабораторий до установок мегасайенс; современные промышленные мощности для производства продуктов на основе этих технологий и пр. Проще говоря, необходимы инвестиции таких масштабов, что на их фоне финансирование НИОКР и зарплаты исследователей — что-то на уровне статистической погрешности.
Соответственно, в‑третьих: технологическое развитие и новые продукты — это производные от объема доступных всем участникам заплыва денег, хоть в "инновационной экосистеме" (привет стартапам), хоть в финансовом секторе (привет масштабированию, неразорительным кредитам и пр.).
Поэтому ситуация с критическими и новыми технологиями, необходимыми для технологического суверенитета, везде, прямо скажем, не блестящая. По части развития пяти основных групп технологий: ИИ, био-, полупроводников, космоса и квантовых — до уровня США и Китая не дотягивает даже коллективный Евросоюз; а Россия — в плане задела, перспектив, инфраструктурных мощностей и пр. — входит в топ‑10 технологических лидеров только в части космических технологий, считают эксперты Harvard Kennedy School (исследование Critical and Emerging Technologies Index).
Во-вторых, технологии — не только интеллектуальная собственность/ноу-хау; это, в первую очередь, инфраструктура в самом широком смысле: физическая для использования продуктов на базе технологий (дата-центры; электрозаправки; спутниковая связь и пр.), для исследований и разработок, от лабораторий до установок мегасайенс; современные промышленные мощности для производства продуктов на основе этих технологий и пр. Проще говоря, необходимы инвестиции таких масштабов, что на их фоне финансирование НИОКР и зарплаты исследователей — что-то на уровне статистической погрешности.
Соответственно, в‑третьих: технологическое развитие и новые продукты — это производные от объема доступных всем участникам заплыва денег, хоть в "инновационной экосистеме" (привет стартапам), хоть в финансовом секторе (привет масштабированию, неразорительным кредитам и пр.).
Поэтому ситуация с критическими и новыми технологиями, необходимыми для технологического суверенитета, везде, прямо скажем, не блестящая. По части развития пяти основных групп технологий: ИИ, био-, полупроводников, космоса и квантовых — до уровня США и Китая не дотягивает даже коллективный Евросоюз; а Россия — в плане задела, перспектив, инфраструктурных мощностей и пр. — входит в топ‑10 технологических лидеров только в части космических технологий, считают эксперты Harvard Kennedy School (исследование Critical and Emerging Technologies Index).
Индекс научно-технологического развития по основным группам критических и новых технологий
Неискусственная боль
Хуже всего обстоят в мире дела с искусственным интеллектом: отдельная (и уже неоднократно озвученная публично) проблема — цифровой/ИИ-суверенитет.
Именно на примерах ИИ и "цифрового суверенитета" особенно отчетливо видно: в нынешней геополитической и экономической ситуации построение технологического суверенитета в отдельно взятой стране — задача, не имеющая универсального решения, поскольку непонятно, где взять технологии (научный/интеллектуальный задел) и деньги на инфраструктуру и доводку технологий до продуктов и стартапов — до рынка.
Хуже всего обстоят в мире дела с искусственным интеллектом: отдельная (и уже неоднократно озвученная публично) проблема — цифровой/ИИ-суверенитет.
Именно на примерах ИИ и "цифрового суверенитета" особенно отчетливо видно: в нынешней геополитической и экономической ситуации построение технологического суверенитета в отдельно взятой стране — задача, не имеющая универсального решения, поскольку непонятно, где взять технологии (научный/интеллектуальный задел) и деньги на инфраструктуру и доводку технологий до продуктов и стартапов — до рынка.
Индекс технологического развития в области ИИ
Во-первых, в мире сложилась очевидная монополия (ну, или олигополия, зависит от точки зрения) в области вычислительных мощностей; а также производства высокопроизводительных чипов, адаптированных к ИИ; равно как и создания/развития базовых ИИ-моделей, и предоставления облачных сервисов для ИИ.
В частности, от 65 % до 80 % мирового рынка ИИ-чипов занимает американская Nvidia, а Intel, AMD, Huawei и пр. пока не слишком серьезные конкуренты; более 60 % рынка облаков приходится на Amazon (AWS; 30 %), Microsoft (MS Azure; 21 %) и Google (Google Cloud; 12 %), что вовсе не удивительно, поскольку с 2015 года Amazon, Google и Microsoft вложили только в "капиталку" $ 780+ млрд, причем больше половины из этих денег ($ 430+ млрд) — за последние три года.
С ИИ-R&D и, шире, инвестициями в исследования и разработки, связанные с высокими технологиями, дело обстоит примерно так же, если не хуже: только за 2023 год топ‑5 технологических компаний (Amazon, Google/Alphabet, Apple, Microsoft и запрещенная в Российской Федерации Meta) вложили в R&D $ 223 млрд — в полтора раза больше, чем все венчурные инвестиции во все стартапы США ($ 136 млрд).
В частности, от 65 % до 80 % мирового рынка ИИ-чипов занимает американская Nvidia, а Intel, AMD, Huawei и пр. пока не слишком серьезные конкуренты; более 60 % рынка облаков приходится на Amazon (AWS; 30 %), Microsoft (MS Azure; 21 %) и Google (Google Cloud; 12 %), что вовсе не удивительно, поскольку с 2015 года Amazon, Google и Microsoft вложили только в "капиталку" $ 780+ млрд, причем больше половины из этих денег ($ 430+ млрд) — за последние три года.
С ИИ-R&D и, шире, инвестициями в исследования и разработки, связанные с высокими технологиями, дело обстоит примерно так же, если не хуже: только за 2023 год топ‑5 технологических компаний (Amazon, Google/Alphabet, Apple, Microsoft и запрещенная в Российской Федерации Meta) вложили в R&D $ 223 млрд — в полтора раза больше, чем все венчурные инвестиции во все стартапы США ($ 136 млрд).
Суперкомпьютерные мощности, установленные в стране, Т-флопс, из числа топ-500 суперкомпьютеров мира
Объем капитальных вложений bich tech, € млрд
Во-вторых, то, что начиналось как геополитическая война в полупроводниках/микроэлектронике, превратилось в ограничения по всем ИИ-фронтам, включая экспорт ИИ-моделей (кода/информации о параметрах и весах), трансграничный обмен данными (и вообще доступ к национальным/персональным данным из-за рубежа), кибербезопасность и пр.
Администрация США, конечно, обещала пересмотреть опубликованные в январе 2025 года «Рамочные правила распространения ИИ-технологий» (Framework for Artificial Intelligence Diffusion), жестко ограничивающие раскрытие данных об ИИ-моделях (параметрах и их весах), а также экспорт технологий, связанных с микроэлектроникой. Но есть подозрение, что ни Китаю — основному адресату экспортных ограничений, — ни остальным отстающим это не поможет.
Потому что — в условиях жестко монопольного рынка — в любом случае приходится выбирать между двумя сомнительными с точки зрения «суверенитета» стратегиями:
Даже если забыть об инфраструктуре и непомерных расходах на нее, государства вынуждены активно вкладываться в "национальные" ИИ на технологическом уровне, причем все, включая Китай.
Для сравнения: в России в реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» планируется вложить 71 млрд руб., что на фоне инвестиций глобального big tech — капля в море.
(Понятно, что вопросы, связанные с развитием ИИ-инфраструктур/импортом микроэлектроники, напрямую ни в каких российских публичных документах освещаться не должны и что, в частности, для решения отдельных задач в области ИИ теперь создаются специальные «выделенные проекты». Но даже в самом оптимистичном и неподсанкционном сценарии найти триллион с лишним рублей на инфраструктурное обеспечение ИИ — та еще задача, даже с поправкой на креативный параллельный импорт, нестандартные решения в области обучения ИИ-моделей и пр.)
Администрация США, конечно, обещала пересмотреть опубликованные в январе 2025 года «Рамочные правила распространения ИИ-технологий» (Framework for Artificial Intelligence Diffusion), жестко ограничивающие раскрытие данных об ИИ-моделях (параметрах и их весах), а также экспорт технологий, связанных с микроэлектроникой. Но есть подозрение, что ни Китаю — основному адресату экспортных ограничений, — ни остальным отстающим это не поможет.
Потому что — в условиях жестко монопольного рынка — в любом случае приходится выбирать между двумя сомнительными с точки зрения «суверенитета» стратегиями:
- отдать решение задач в национальном ИИ (в первую очередь, создание мощностей) на откуп глобальным вендорам, сохранив лишь контроль над данными (например, в 2023 году Сингапур вместе с Amazon развернул на своей территории облачные мощности для хранения критических для страны данных [гостайна, статистические массивы и пр.] с доступом только для авторизованного персонала; остальные компоненты: инфраструктура, ПО и пр. — поддерживаются Amazon;
- выстроить условно независимую ИИ-инфраструктуру, опять же, с закупкой решений у глобальных вендоров: в 2022 году по этому пути двинулась Германия, закупившая у SAP и Microsoft решения для госсервисов под ключ и отдавшая их под управление немецкой Arvato (и хард, и софт физически отделены от облаков Microsoft; все обновления идут строго через Arvato).
Даже если забыть об инфраструктуре и непомерных расходах на нее, государства вынуждены активно вкладываться в "национальные" ИИ на технологическом уровне, причем все, включая Китай.
- Китай в 2025 году создал фонд с госучастием для развития ИИ и ИИ-индустрии (National AI Industry Investment Fund) объемом $ 8+ млрд;
- Франция — похоже, отчаявшись дождаться милостей от природы и США, — в 2024 году объявила о планах инвестировать в ИИ € 100+ млрд (включая инфраструктурные проекты; насколько это реалистично, вопрос отдельный);
- Германия в 2019−2021 годах вложила в ИИ (R&D, стартапы и пр.) € 3,5 млрд; в ближайшие годы туда будет вложено еще € 1,6 млрд — при том, что в производство микроэлектроники немецкий глобальный бизнес планирует вложить (заявлены проекты Intel, TSMC и Infineon) в общей сложности $ 50 млрд;
- Республика Корея только в 2025 году планирует проинвестировать в ИИ (в том числе в спеццентр по развитию технологий для AGI) $ 1 млрд;
- Индия в 2024 году объявила о намерении вложить в ИИ-стартапы и инфраструктуру $ 1,25 млрд (India AI Mission — в пару к уже работающей India Semiconductor Mission на $ 1,9 млрд);
- Япония в том же 2024 году приняла пакет мер поддержки ИИ и ИИ-технологий (в том числе полупроводниковых) на $ 12,9 млрд;
- ОАЭ уже вложили сотни миллионов долларов в "малую" LLM с открытым исходным кодом и получили отличный результат.
Для сравнения: в России в реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» планируется вложить 71 млрд руб., что на фоне инвестиций глобального big tech — капля в море.
(Понятно, что вопросы, связанные с развитием ИИ-инфраструктур/импортом микроэлектроники, напрямую ни в каких российских публичных документах освещаться не должны и что, в частности, для решения отдельных задач в области ИИ теперь создаются специальные «выделенные проекты». Но даже в самом оптимистичном и неподсанкционном сценарии найти триллион с лишним рублей на инфраструктурное обеспечение ИИ — та еще задача, даже с поправкой на креативный параллельный импорт, нестандартные решения в области обучения ИИ-моделей и пр.)
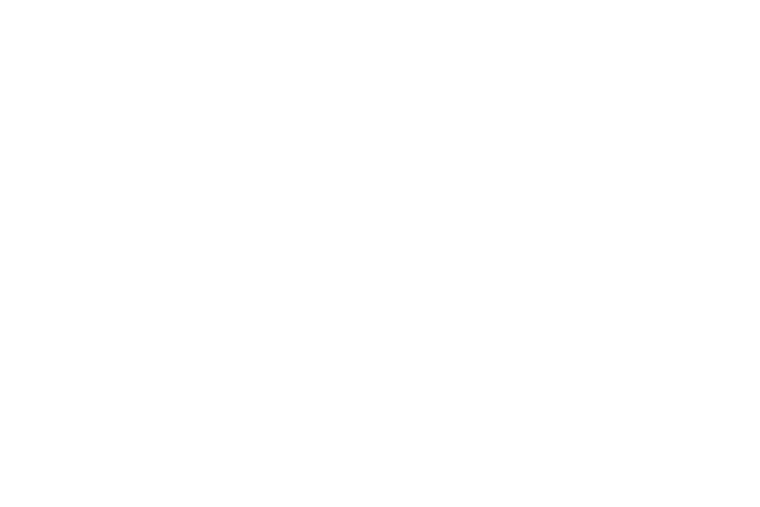
Центр обработки данных компании CMC Telecom
Тектоника
Самое обидное — то, что технологии, технологические приоритеты и даже научно-технологические деньги — всё это не самое главное и даже не самое сложное. Технологический суверенитет как концепция возник и существует не в вакууме, и ряд привходящих факторов сильно влияют на все происходящее в этой сфере.
Во-первых, управляющей конструкцией в больших политиках уже три года назад стала национальная безопасность; остальные стратегии, программы и планы так или иначе «подверстываются» под задачи обеспечения этой безопасности. В 2022 году США обновили «Стратегию национальной безопасности», в 2023‑м приняли «Стратегию научно-технологического развития для национальной обороны»; в 2024 году к гонке за технологической безопасностью присоединились НАТО в целом (единая стратегия развития новых и "разрушительных" технологий), ЕС, Германия и Австралия; в 2025‑м — Швеция и пр.
Самые запоздалые инициативы — европейские «Стратегия всеобщей готовности» (Preparedness Union Strategy) и "План перевооружений" (ReArm Europe Plan), прилагающийся к ней, — были приняты в марте 2025 года и рассматривают безопасность как комплексную проблему, требующую работы с системами здравоохранения, миграцией и миграционным законодательством, климатом, технологической безопасностью, механизмами защиты экономики от разнообразных геополитических неожиданностей и пр.
Отсюда — "во-вторых": большинство «суверенных» концепций и стратегий научно-технологической политики принимаются в паре со стратегиями политики промышленной, потому что молодец не тот, кто разработал технологию, а тот, кто изготовил на ее основе нормальный продукт и продал его кому надо.
В этом плане можно говорить о великом возвращении (и доминировании) промышленных политик.
Новые стратегии, связанные с развитием промышленности, приняли Китай (концепция «Индустрии будущего», 2024), Евросоюз («Стратегия развития европейской промышленности», 2021; «Стратегия развития оборонной промышленности», 2024), Германия (стратегия «Промышленность в эпоху перемен», 2023; «Стратегия развития оборонной промышленности», 2024), Великобритания (проект стратегии развития промышленности Invest2035, 2024). Так что из глобальных игроков без большой политики пока обошлись только США, хотя и там еще в 2022 году был принят «Акт о развитии микроэлектроники и науки» (Science and Chips Act), а 2025 год отметился торговыми пошлинами, из-за которых друзей и партнеров США лихорадит до сих пор.
Самое обидное — то, что технологии, технологические приоритеты и даже научно-технологические деньги — всё это не самое главное и даже не самое сложное. Технологический суверенитет как концепция возник и существует не в вакууме, и ряд привходящих факторов сильно влияют на все происходящее в этой сфере.
Во-первых, управляющей конструкцией в больших политиках уже три года назад стала национальная безопасность; остальные стратегии, программы и планы так или иначе «подверстываются» под задачи обеспечения этой безопасности. В 2022 году США обновили «Стратегию национальной безопасности», в 2023‑м приняли «Стратегию научно-технологического развития для национальной обороны»; в 2024 году к гонке за технологической безопасностью присоединились НАТО в целом (единая стратегия развития новых и "разрушительных" технологий), ЕС, Германия и Австралия; в 2025‑м — Швеция и пр.
Самые запоздалые инициативы — европейские «Стратегия всеобщей готовности» (Preparedness Union Strategy) и "План перевооружений" (ReArm Europe Plan), прилагающийся к ней, — были приняты в марте 2025 года и рассматривают безопасность как комплексную проблему, требующую работы с системами здравоохранения, миграцией и миграционным законодательством, климатом, технологической безопасностью, механизмами защиты экономики от разнообразных геополитических неожиданностей и пр.
Отсюда — "во-вторых": большинство «суверенных» концепций и стратегий научно-технологической политики принимаются в паре со стратегиями политики промышленной, потому что молодец не тот, кто разработал технологию, а тот, кто изготовил на ее основе нормальный продукт и продал его кому надо.
В этом плане можно говорить о великом возвращении (и доминировании) промышленных политик.
Новые стратегии, связанные с развитием промышленности, приняли Китай (концепция «Индустрии будущего», 2024), Евросоюз («Стратегия развития европейской промышленности», 2021; «Стратегия развития оборонной промышленности», 2024), Германия (стратегия «Промышленность в эпоху перемен», 2023; «Стратегия развития оборонной промышленности», 2024), Великобритания (проект стратегии развития промышленности Invest2035, 2024). Так что из глобальных игроков без большой политики пока обошлись только США, хотя и там еще в 2022 году был принят «Акт о развитии микроэлектроники и науки» (Science and Chips Act), а 2025 год отметился торговыми пошлинами, из-за которых друзей и партнеров США лихорадит до сих пор.
Количество новых мер поддержки промышленности, в мире
Кстати, Китай выстроил логику «сначала определить рынок и продукты и лишь потом финансировать профильные исследования» еще лет тридцать назад. Лучший пример — комплексная политика поддержки технологий, связанных с батареями: поддержка соответствующих R&D + поддержка целевого рынка для применения результатов этих R&D (производство электромобилей; в частности, в 2009−2022 годах Китай вложил в эту тему около $ 29 млрд). В результате: а) китайские исследователи дают миру более 70 % научных публикаций по теме «батареи» (в 2002 году — меньше 10 %), б) китайская промышленность производит 77 % всех электробатарей, а два крупнейших производителя батарей для электромобилей, CATL и BYD, занимают 50 % мирового рынка.
В-третьих: гонка за технологическим суверенитетом/лидерством и критическими технологиями — это, конечно же, гонка за следующим поколением продуктов и стандартов, как в сфере потребления, так и в производстве, и в области бизнес-моделей и продуктовой экономики.
В-третьих: гонка за технологическим суверенитетом/лидерством и критическими технологиями — это, конечно же, гонка за следующим поколением продуктов и стандартов, как в сфере потребления, так и в производстве, и в области бизнес-моделей и продуктовой экономики.
Технологическое лидерство в российской версии
Технологическое лидерство РФ — независимость страны, выражающаяся в разработке отечественных технологий и создании продукции с сохранением национального контроля над критическими и сквозными технологиями на основе собственных линий их разработки в целях экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и (или) замещения ею на внутреннем рынке продукции, создаваемой на базе устаревших отечественной и (или) иностранных технологий, а также превосходство отечественной продукции над зарубежными аналогами.
(федеральный закон «О технологической политике в Российской Федерации» № 523-ФЗ от 28.12.2024)
(федеральный закон «О технологической политике в Российской Федерации» № 523-ФЗ от 28.12.2024)
И в этой связи всех волнует один-единственный вопрос, на который пока нет ответа не только в российской, но и в мировой технологической политике.
Предыдущее поколение критических/новых технологий входило в рыночную силу на глобальном рынке; в частности, именно за счет глобальных масштабов произошла массовизация целого ряда технологий (начиная с секвенирования генома, стоимость которого упала со $ 100 млн в 2001 году до $ 500 в 2023‑м, и заканчивая литийионными батареями, которые подешевели не столь радикально, но тоже заметно: с $ 780 за 1 кВт·ч в 2003‑м до $ 139 в 2023‑м).
Сейчас ситуация принципиально иная; как будут устроены «технологически суверенные рынки» и высокотехнологичный экспорт в деглобализированном мире, пока не ясно. Равно и то, как и кому надо продавать высокотехнологичную продукцию, чтобы отбить хотя бы деньги, вложенные в "технологическое лидерство". И, заодно, как добиться эффекта масштаба и приемлемой стоимости продукции, не имея доступа к бесконечным внешним рынкам.
(Понятно, что для России эта ситуация описывается поговоркой «не жили хорошо, нечего и начинать»: доля высокотехнологичной продукции/услуг в общем объеме российского экспорта не превышает 10 %, в то время как в Германии на высокие технологии приходится порядка 35 % экспорта, в Китае — 20 %+ и пр.; отсутствие продуктовых компетенций в промышленности нашу суверенную технологическую жизнь, конечно, не украсит, причем в любом сценарии, хоть деглобализационном, хоть глобализационном.)
И наконец, самое сложное — в‑четвертых: помимо очевидной проблемы с деньгами и продуктами/рынками, на пути к достижению технологического суверенитета/лидерства стоит проблема не столь очевидная. А именно — несоответствие старых систем управления научно-технологическим развитием реалиям нового, стремительно суверенизирующегося мира.
Можно поставить технологические цели; можно найти деньги на их достижение, хотя это не просто. Но все это отнюдь не гарантирует того, что «научно-технологические» деньги трансформируются в нужный заказчикам/государствам результат: новые продукты, экономическое развитие, качество жизни и пр.
Ответ на этот вызов пока один — централизация управления НТР, и тот же Китай в последние пять лет последовательно движется именно в эту сторону, в том числе завершив реформу академии наук и создав Центральную комиссию по науке и технологиям при ЦК КПК.
Предыдущее поколение критических/новых технологий входило в рыночную силу на глобальном рынке; в частности, именно за счет глобальных масштабов произошла массовизация целого ряда технологий (начиная с секвенирования генома, стоимость которого упала со $ 100 млн в 2001 году до $ 500 в 2023‑м, и заканчивая литийионными батареями, которые подешевели не столь радикально, но тоже заметно: с $ 780 за 1 кВт·ч в 2003‑м до $ 139 в 2023‑м).
Сейчас ситуация принципиально иная; как будут устроены «технологически суверенные рынки» и высокотехнологичный экспорт в деглобализированном мире, пока не ясно. Равно и то, как и кому надо продавать высокотехнологичную продукцию, чтобы отбить хотя бы деньги, вложенные в "технологическое лидерство". И, заодно, как добиться эффекта масштаба и приемлемой стоимости продукции, не имея доступа к бесконечным внешним рынкам.
(Понятно, что для России эта ситуация описывается поговоркой «не жили хорошо, нечего и начинать»: доля высокотехнологичной продукции/услуг в общем объеме российского экспорта не превышает 10 %, в то время как в Германии на высокие технологии приходится порядка 35 % экспорта, в Китае — 20 %+ и пр.; отсутствие продуктовых компетенций в промышленности нашу суверенную технологическую жизнь, конечно, не украсит, причем в любом сценарии, хоть деглобализационном, хоть глобализационном.)
И наконец, самое сложное — в‑четвертых: помимо очевидной проблемы с деньгами и продуктами/рынками, на пути к достижению технологического суверенитета/лидерства стоит проблема не столь очевидная. А именно — несоответствие старых систем управления научно-технологическим развитием реалиям нового, стремительно суверенизирующегося мира.
Можно поставить технологические цели; можно найти деньги на их достижение, хотя это не просто. Но все это отнюдь не гарантирует того, что «научно-технологические» деньги трансформируются в нужный заказчикам/государствам результат: новые продукты, экономическое развитие, качество жизни и пр.
Ответ на этот вызов пока один — централизация управления НТР, и тот же Китай в последние пять лет последовательно движется именно в эту сторону, в том числе завершив реформу академии наук и создав Центральную комиссию по науке и технологиям при ЦК КПК.
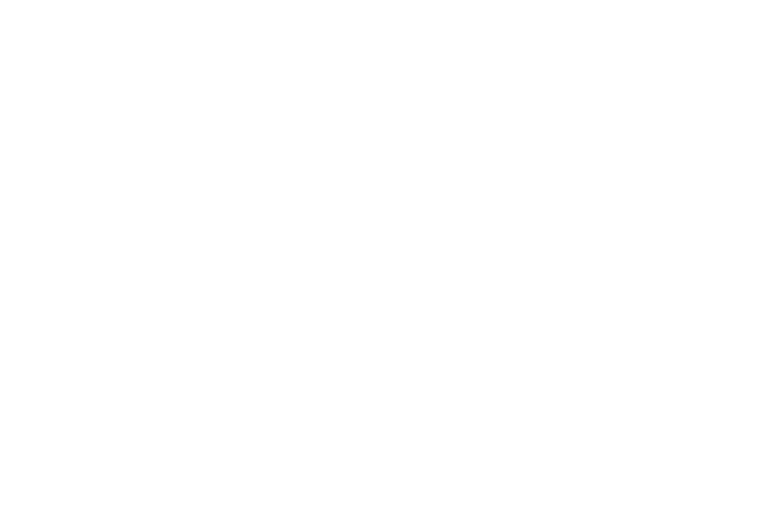
По течению
С точки зрения форматов управления научно-технологическим развитием, Россия движется примерно в ту же сторону, что и остальные страны, претендующие на технологическое лидерство/суверенитет.
Во-первых, в стране утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий (Указ Президента Р Ф № 529 от 18.06.2024), которые — по крайней мере, теоретически — должны стать основой для принятия решений о финансировании.
Во-вторых, постепенно продвигается централизация управления научно-технологическим развитием.
Еще год назад были расширены полномочия Комиссии по научно-технологическому развитию при Правительстве Р Ф; в частности, комиссия получила возможность координировать деятельность всех подразделений федеральных министерств и ведомств, отвечающих за научно-технологическое развитие, а также контролировать процесс определения научных и технологических приоритетов страны (Постановление Правительства Р Ф № 995 от 22.07.2024, обеспечившее внесение соответствующих изменений в Положение о Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации).
Министерство науки и высшего образования России уже несколько лет ведет не очень заметную широкой общественности, но системную и важную работу по адаптации существующих схем/каналов финансирования НИОКР к решению задач в части достижения технологического суверенитета; некоторые инициативы прямо связаны с централизацией управления заказами на исследования и разработки. В частности, упорядочены учет и планирование всех научных, исследовательских и разработческих проектов, финансируемых из государственного бюджета, на базе единой платформы ЕГИСУ НИОКТР.
В-третьих, признан тот факт, что российская технологическая политика, понимаемая в логике «импортозамещения», себя исчерпала и что ставка должна быть сделана на высокотехнологичные продукты (и, соответственно, на всю цепочку создания инноваций, от R&D до конечного продукта).
В этой связи в июне 2025 года Минпромторг России выступил с предложением переформатировать деятельность правительственной Комиссии по импортозамещению, трансформировав ее в Комиссию по промышленности и сместив основной акцент ее работы на создание [искомой] высокотехнологичной продукции, востребованной рынком.
В этом плане Россия тоже находится в общемировом тренде — без сближения и синхронизации научно-технологической и промышленной политики невозможно говорить ни о технологическом лидерстве, ни о техсуверенитете.
Наконец, в‑четвертых: в 2025 году министерство экономики разработало ряд подзаконных актов, необходимых для реализации ФЗ «О технологической политике» и предполагающих, в числе прочего, формирование единой механики реализации национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ), включая разработку официальных перечней необходимых для техсуверенитета/лидерства технологий (критических, сквозных) и перечней высокотехнологичной продукции, которая должна появиться в России в результате реализации нацпроектов.
С точки зрения форматов управления научно-технологическим развитием, Россия движется примерно в ту же сторону, что и остальные страны, претендующие на технологическое лидерство/суверенитет.
Во-первых, в стране утверждены приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий (Указ Президента Р Ф № 529 от 18.06.2024), которые — по крайней мере, теоретически — должны стать основой для принятия решений о финансировании.
Во-вторых, постепенно продвигается централизация управления научно-технологическим развитием.
Еще год назад были расширены полномочия Комиссии по научно-технологическому развитию при Правительстве Р Ф; в частности, комиссия получила возможность координировать деятельность всех подразделений федеральных министерств и ведомств, отвечающих за научно-технологическое развитие, а также контролировать процесс определения научных и технологических приоритетов страны (Постановление Правительства Р Ф № 995 от 22.07.2024, обеспечившее внесение соответствующих изменений в Положение о Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации).
Министерство науки и высшего образования России уже несколько лет ведет не очень заметную широкой общественности, но системную и важную работу по адаптации существующих схем/каналов финансирования НИОКР к решению задач в части достижения технологического суверенитета; некоторые инициативы прямо связаны с централизацией управления заказами на исследования и разработки. В частности, упорядочены учет и планирование всех научных, исследовательских и разработческих проектов, финансируемых из государственного бюджета, на базе единой платформы ЕГИСУ НИОКТР.
В-третьих, признан тот факт, что российская технологическая политика, понимаемая в логике «импортозамещения», себя исчерпала и что ставка должна быть сделана на высокотехнологичные продукты (и, соответственно, на всю цепочку создания инноваций, от R&D до конечного продукта).
В этой связи в июне 2025 года Минпромторг России выступил с предложением переформатировать деятельность правительственной Комиссии по импортозамещению, трансформировав ее в Комиссию по промышленности и сместив основной акцент ее работы на создание [искомой] высокотехнологичной продукции, востребованной рынком.
В этом плане Россия тоже находится в общемировом тренде — без сближения и синхронизации научно-технологической и промышленной политики невозможно говорить ни о технологическом лидерстве, ни о техсуверенитете.
Наконец, в‑четвертых: в 2025 году министерство экономики разработало ряд подзаконных актов, необходимых для реализации ФЗ «О технологической политике» и предполагающих, в числе прочего, формирование единой механики реализации национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ), включая разработку официальных перечней необходимых для техсуверенитета/лидерства технологий (критических, сквозных) и перечней высокотехнологичной продукции, которая должна появиться в России в результате реализации нацпроектов.
Российские национальные проекты технологического лидерства (2025)
- «Новые материалы и химия»
- «Средства производства и автоматизации»
- «Новые атомные и энергетические технологии»
- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»
- «Беспилотные авиационные системы»
- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
- «Новые технологии сбережения здоровья»
- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки»
- * «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (является НПТЛ не формально, а фактически, поскольку ориентирован на самую большую группу критических/новых технологий в глобальном их понимании)
Складывающаяся в стране ориентация на чисто прикладной, «проектный» подход к технологической/промышленной политике — ситуационно логичный шаг: уровень мировой геополитической и экономической неопределенности таков, что всерьез строить планы разработки высокотехнологичных продуктов (а также их финансирования) можно только исходя из упомянутой выше логики национальной безопасности — по принципу «что нам точно понадобится и что мы точно не сможем купить за рубежом».
Правда, к этому принципу прилагается вопрос, ответ на который пока [публично] не озвучен: допустим, часть технологий/продуктов появится в России и они даже окажутся экономически/технологически конкурентоспособными; это нужно, важно и ценно. Но рано или поздно придется решать, что́ делать со всем остальным и что, у кого, каким образом и за какие деньги покупать. Тут-то и начнется самое интересное.
Правда, к этому принципу прилагается вопрос, ответ на который пока [публично] не озвучен: допустим, часть технологий/продуктов появится в России и они даже окажутся экономически/технологически конкурентоспособными; это нужно, важно и ценно. Но рано или поздно придется решать, что́ делать со всем остальным и что, у кого, каким образом и за какие деньги покупать. Тут-то и начнется самое интересное.
Приоритетные критические и новые технологии США (2024)
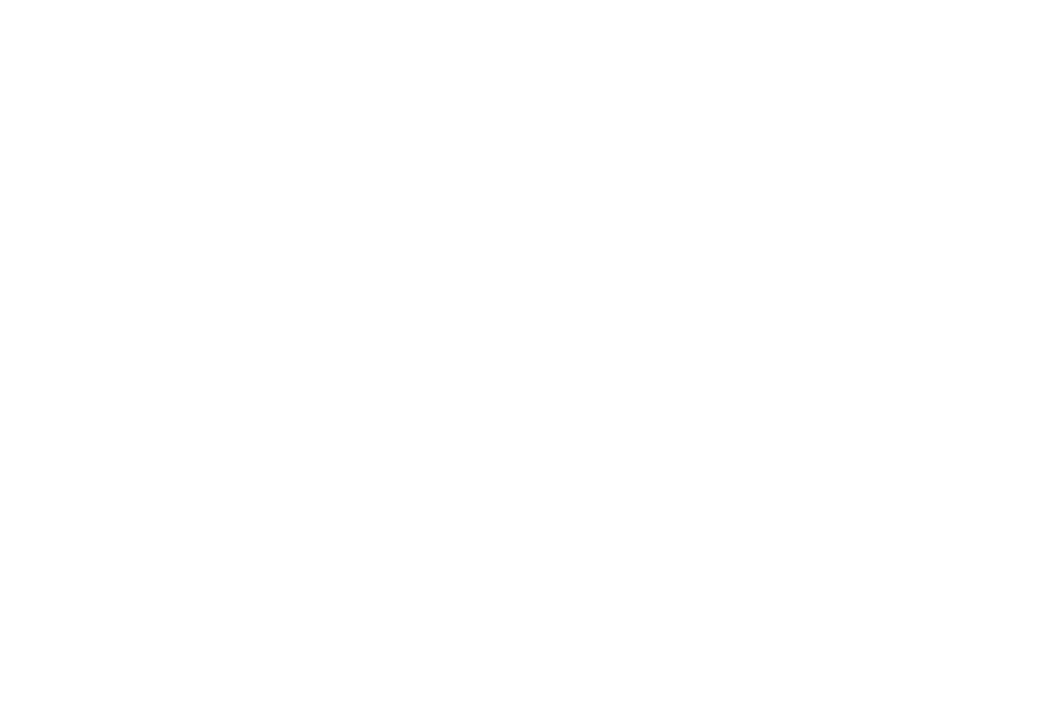
Передовые вычисления
- Передовые суперкомпьютеры, в том числе для ИИ
- Периферийные вычисления и устройства
- Передовые облачные сервисы
- Высокопроизводительные хранилища данных и ЦОДы
- Передовые вычислительные архитектуры
- Передовое моделирование/имитация
- Методы обработки и анализа данных
- Пространственные вычисления
Передовые материалы
- Материалы, разработанные с использованием конструкционных материалов и "геномики материалов"
- Материалы с новыми свойствами, включая улучшенные
- Новые и перспективные методы характеризации свойств материалов и оценки их жизненного цикла
Передовые технологии для газотурбинных двигателей
- Технологии разработки и производства двигателей для аэрокосмической, морской и промышленной сфер
- Полнофункциональное цифровое управление двигателем, производство горячих (силовых) секций и сопутствующие технологии
Передовые и сетевые датчики
- Полезные нагрузки, датчики и приборы
- Обработка данных с датчиков, в т. ч. технологии интеграции данных
- Адаптивная оптика
- Дистанционное зондирование Земли
- Геофизическое зондирование
- Управление сигнатурами
- Обнаружение и характеристика патогенов, химического, биологического, радиологического и ядерного оружия и материалов
- Датчики в транспортном секторе
- Датчики в сфере безопасности
- Датчики в сфере здравоохранения
- Датчики в энергетическом секторе
- Датчики в производственном секторе
- Датчики в строительном секторе
- Датчики в сфере охраны окружающей среды
Передовые производственные технологии
- Передовые аддитивные технологии
- Передовые производственные технологии и методы, включая поддерживающие чистое, устойчивое и интеллектуальное производство, нанопроизводство, производство легких металлов, а также восстановление продуктов и материалов
Искусственный интеллект
- Машинное обучение
- Глубокое обучение
- Обучение с подкреплением
- Сенсорное восприятие и распознавание
- Методы оценки ИИ
- Базовые модели
- Генеративный ИИ, мультимодальные и большие языковые модели (LLM)
- Синтетический подход к данным для обучения, донастройки и тестирования
- Планирование, рассуждение и принятие решений
- Технологии повышения безопасности, доверия, защищенности и ответственного использования ИИ
Биотехнологии
- Новая синтетическая биология, включая синтез и инженерию нуклеиновых кислот, генома, эпигенома и белков, в т. ч. инструменты проектирования
- Мультиомика и др. биометрологические и биоинформатические методы, вычислительная биология, предиктивное моделирование и аналитические инструменты
- Инженерия субклеточных, многоклеточных и многомасштабных систем
- Бесклеточные системы и технологии
- Инженерия вирусов и вирусных систем доставки
- Биотические/абиотические интерфейсы
- Технологии биопроизводства и биообработки
Производство и хранение чистой энергии
- Возобновляемая генерация
- Возобновляемые и устойчивые химические вещества, топливо и сырье
- Ядерные энергетические системы
- Термоядерная энергия
- Хранение энергии
- Электрические и гибридные двигатели
- Аккумуляторы
- Технологии интеграции ВИЭ в энергосистемы
- Технологии энергоэффективности
- Технологии управления выбросами углерода
Технологии конфиденциальности, безопасности данных и кибербезопасности
- Технологии распределенного реестра
- Цифровые активы
- Технологии цифровых платежей
- Технологии цифровой идентификации, биометрия и связанная с ними инфраструктура
- Связь и сетевая безопасность
- Технологии обеспечения конфиденциальности
- Технологии объединения данных и улучшения/повышения интероперабельности, конфиденциальности и безопасности данных
- Распределенные конфиденциальные вычисления
- Безопасность «цепочки поставок» вычислений
- Технологии безопасности и конфиденциальности в дополненной/виртуальной реальности
Направленная передача энергии
- Лазеры
- Микроволны высокой мощности
- Пучки частиц
Высокоавтоматизированные, автономные и беспилотные системы; робототехника
- Наземные
- Воздушные
- Морские
- Космические
- Поддерживающая цифровая инфраструктура, включая карты высокого разрешения (HD)
- Автономное управление и контроль
Человеко-машинные интерфейсы
- Дополненная реальность
- Виртуальная реальность
- Взаимодействие человека и машины
- Нейротехнологии
Гиперзвук
- Движение
- Аэродинамика и управление
- Материалы, конструкции и производство
- Обнаружение, отслеживание, оценка и защита
- Испытания
Коммуникационные и сетевые технологии
- Радиочастотные и смешанные сигнальные схемы, антенны, фильтры и компоненты
- Технологии управления/регулирования спектра частот, датчиков
- Беспроводные сети нового поколения
- Оптические линии связи и оптоволоконные технологии
- Наземные/подводные кабели
- Спутниковая и стратосферная связь
- Сети, устойчивые к разрывам (DTN)
- Ячеистая топология/инфраструктурно-независимые коммуникационные технологии
- Программно-конфигурируемые сети и радиосвязь
- Современные методы обмена данными
- Адаптивное сетевое управление
- Устойчивые и адаптивные формы сигналов
Технологии позиционирования, навигации и синхронизации
- Разнообразные технологии ПНС для пользователей, а также воздушных, космических, наземных, подземных и подводных систем
- Технологии обнаружения помех, глушения и спуфинга, алгоритмы, аналитика, системы мониторинга
- Технологии защиты от сбоев и блокирования
Квантовые и вспомогательные технологии
- Квантовые вычисления
- Материалы, изотопы и методы изготовления квантовых устройств
- Квантовые датчики
- Квантовые коммуникации и сетевые технологии
- Поддерживающие системы
Полупроводники и микроэлектроника
- Средства автоматизации проектирования электроники
- Производственные процессы и оборудование
- Выход за пределы CMOS-технологии
- Гетерогенная интеграция, передовая корпусировка
- Специализированные/индивидуальные аппаратные компоненты для ИИ, естественных и агрессивных радиационных сред, радиочастотные и оптические компоненты, высокомощные устройства и др. критически важные приложения микроэлектронных технологий
- Новые материалы для современной микроэлектроники
- Микроэлектромеханические системы (МЭМС) и наноэлектромеханические системы (НЭМС)
- Новые архитектуры для не фон-неймановских вычислений
Космические технологии
Источник: официальный «Перечень критических и новых технологий США» (Critical and Emerging Technologies List, 2024).
- Обслуживание, сборка и производство в космосе; вспомогательные технологии
- Решения для экономически эффективных многоразовых космических систем запуска
- Технологии, обеспечивающие доступ к использованию окололунного пространства и/или новых орбит
- Датчики и инструменты анализа данных космических наблюдений
- Космические двигатели
- Перспективные системы генерации энергии для космических аппаратов
- Новые системы управления температурой космических аппаратов
- Технологии для пилотируемых космических полетов
- Устойчивые и многомаршрутные космические системы связи, сети и наземные станции
- Технологии для запуска, обеспечения дальности полета и безопасности космических аппаратов
Источник: официальный «Перечень критических и новых технологий США» (Critical and Emerging Technologies List, 2024).
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ