NICA: от пусконаладки до столкновения
НАУКА / #6_2025
Текст: Марина ПОЛЯКОВА / Фото: РИА Новости, Страна Росатом
На фото: Изоляционный объем коллайдера ускорительного комплекса NICA
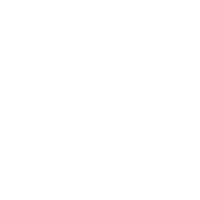
В марте в Дубне стартовал первый сеанс работы коллайдера ускорительного комплекса NICA. Он продлится около полугода и завершится столкновением встречных пучков ксенона. Но прежде чем первые частицы полетят по кольцу коллайдера, инженеры должны завершить ключевой этап работ — пусконаладку. Это не просто монтаж оборудования, это гигантский пул технических, логистических и управленческих задач. Как согласовать работу десятков организаций и сотен специалистов? Почему самые сложные вопросы — не технические, а организационные? Детали раскрывает Артем Галимов, главный инженер инжекционного комплекса Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований.
Расскажите, пожалуйста, о том, как вы выбирали профессию.
Я учился в Казанском государственном технологическом университете (КГТУ) на кафедре «Вакуумная компрессорная техника физических установок». Мне всегда нравилось работать с техникой, поэтому механический факультет казался логичным выбором.
Закончил специалитет — 5,5 лет. Настоящая специализация началась только на четвертом курсе. Вот тогда стало по-настоящему интересно: пошли лабораторные работы, эксперименты на реальном оборудовании.
На четвертом же курсе я съездил в Дубну, прошел практику в ОИЯИ. Несколькими годами ранее в лаборатории официально стартовал проект NICA, институт активно набирал студентов и молодых специалистов. Мне в институте понравилось — работы было много, и она совпадала с моими интересами.
После защиты диплома мне предложили работу в лаборатории. Так я и оказался в ОИЯИ.
Могли бы вы рассказать о своем трудовом пути и обозначить круг ваших сегодняшних задач?
Я руковожу сектором, отвечающим за обслуживание магнитно-криостатной системы кольцевых ускорителей и вакуумных систем ускорительного комплекса. Параллельно курирую монтаж и пусконаладку магнитно-криостатной системы коллайдера. В ОИЯИ работаю уже 15 лет — с 2010 года. За это время прошел через несколько подразделений, решал разнообразные задачи — от повседневного обслуживания до ввода в эксплуатацию нового оборудования.
Я пришел в отдел, обслуживавший ускорительный комплекс. На тот момент он состоял из «Нуклотрона», линейного ускорителя и каналов вывода пучка в экспериментальные павильоны. Затем я в составе команды из 10 человек участвовал в создании фабрики для производства сверхпроводящих магнитов. Параллельно мы собирали и испытывали первые магниты для «Бустера» — нового ускорителя, запущенного в 2020 году. Он используется как промежуточная установка в ускорительном каскаде комплекса NICA.
Параллельно я отвечал за изготовление и испытание магнитов для немецкого проекта FAIR. Это аналог нашего проекта, но там эксперименты будут проводиться не на встречных пучках, а на фиксированных мишенях. Немецкие коллеги применяют магниты, конструктивно похожие на магниты «Нуклотрона» — с трубчатой обмоткой. После пуска фабрики и завершения испытаний магнитных элементов для «Бустера» мне предложили вернуться в ускорительное отделение, но уже в другую команду — ту, которая занималась разработкой, сборкой, монтажом и пусконаладкой «Бустера». Сейчас эта команда выполняет аналогичные работы для коллайдера.
Я учился в Казанском государственном технологическом университете (КГТУ) на кафедре «Вакуумная компрессорная техника физических установок». Мне всегда нравилось работать с техникой, поэтому механический факультет казался логичным выбором.
Закончил специалитет — 5,5 лет. Настоящая специализация началась только на четвертом курсе. Вот тогда стало по-настоящему интересно: пошли лабораторные работы, эксперименты на реальном оборудовании.
На четвертом же курсе я съездил в Дубну, прошел практику в ОИЯИ. Несколькими годами ранее в лаборатории официально стартовал проект NICA, институт активно набирал студентов и молодых специалистов. Мне в институте понравилось — работы было много, и она совпадала с моими интересами.
После защиты диплома мне предложили работу в лаборатории. Так я и оказался в ОИЯИ.
Могли бы вы рассказать о своем трудовом пути и обозначить круг ваших сегодняшних задач?
Я руковожу сектором, отвечающим за обслуживание магнитно-криостатной системы кольцевых ускорителей и вакуумных систем ускорительного комплекса. Параллельно курирую монтаж и пусконаладку магнитно-криостатной системы коллайдера. В ОИЯИ работаю уже 15 лет — с 2010 года. За это время прошел через несколько подразделений, решал разнообразные задачи — от повседневного обслуживания до ввода в эксплуатацию нового оборудования.
Я пришел в отдел, обслуживавший ускорительный комплекс. На тот момент он состоял из «Нуклотрона», линейного ускорителя и каналов вывода пучка в экспериментальные павильоны. Затем я в составе команды из 10 человек участвовал в создании фабрики для производства сверхпроводящих магнитов. Параллельно мы собирали и испытывали первые магниты для «Бустера» — нового ускорителя, запущенного в 2020 году. Он используется как промежуточная установка в ускорительном каскаде комплекса NICA.
Параллельно я отвечал за изготовление и испытание магнитов для немецкого проекта FAIR. Это аналог нашего проекта, но там эксперименты будут проводиться не на встречных пучках, а на фиксированных мишенях. Немецкие коллеги применяют магниты, конструктивно похожие на магниты «Нуклотрона» — с трубчатой обмоткой. После пуска фабрики и завершения испытаний магнитных элементов для «Бустера» мне предложили вернуться в ускорительное отделение, но уже в другую команду — ту, которая занималась разработкой, сборкой, монтажом и пусконаладкой «Бустера». Сейчас эта команда выполняет аналогичные работы для коллайдера.
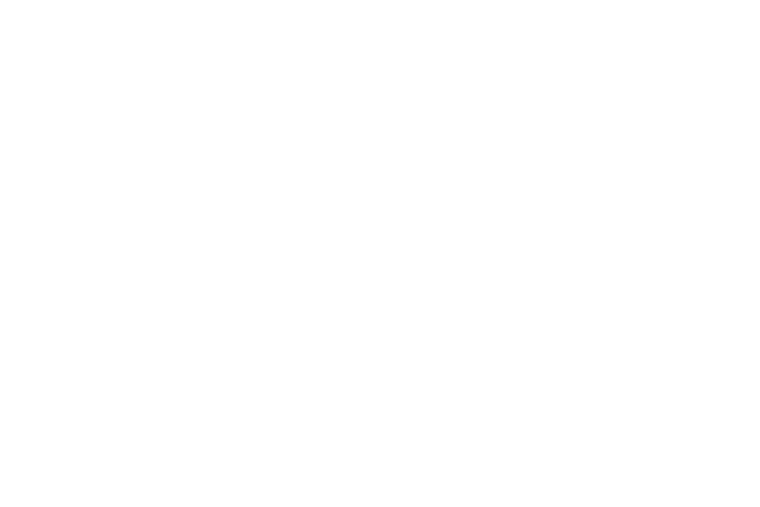
Пост откачки пучковой камеры коллайдера комплекса NICA
Расскажите, пожалуйста, о пусконаладке коллайдера и в целом о работе на ускорительном комплексе.
Комплекс NICA — это каскад установок. Все началось с линейных ускорителей (если говорить об ускорительной части). Затем появился «Бустер" — сверхпроводящий ускоритель, запущенный в 2020 году. После „Бустера" — "Нуклотрон“. Весь комплекс строится на базе „Нуклотрона“. С "Нуклотрона» пучки могут быть выведены либо в коллайдер, либо в павильон с экспериментальными установками.
Сейчас идет пусконаладка коллайдера, включающая множество этапов.
Вначале расставляются и соединяются структурные элементы ускорителя. Затем начинается цикл испытаний: вакуумные, электрические, криогенные, включая охлаждение магнитных элементов до рабочей температуры — 4,2 К. После этого переходят к работе с пучком. Главное — добиться его первого оборота. Это ключевой момент: если пучок совершил полный оборот, значит, магнитная структура собрана правильно. Только после этого можно постепенно увеличивать энергию и наращивать интенсивность.
После достижения рабочей интенсивности можно переходить к полноценным экспериментам. На этом этапе вводятся в эксплуатацию основные детекторы (до этого используются так называемые настроечные детекторы, работающие с малой интенсивностью и не совсем соответствующие рабочим параметрам). Постепенно, шаг за шагом, все характеристики доводятся до проектных значений.
Только после окончания всех этих этапов можно сказать, что ускоритель работает в соответствии с техническим заданием. Этот процесс занимает не недели и даже не месяцы — он часто растягивается на годы. При этом параллельно осуществляются критически важные для работы ускорителя улучшения, так как становится понятно, какой дополнительный функционал необходимо добавить, например, другую диагностику для лучшего контроля за ускоряемыми частицами. Даже такие относительно небольшие улучшения можно считать полноценной модернизацией, хотя модернизировать то, что еще не построено, вроде бы странно.
Расскажите, пожалуйста, о планах и перспективах вашего направления.
Мы развиваем два основных направления: проводим эксперименты с тяжелыми ядрами и параллельно осуществляем спиновую программу. Необходимо также скорректировать конфигурацию магнитной структуры. Дело в том, что за время, прошедшее после проектирования и составления технического задания, требования к параметрам ускорительной машины претерпели некоторые изменения: возникла потребность в более тонкой настройке магнитных элементов для точного управления пучком. Такой функционал требует изменения системы питания магнитов и добавления дополнительных токовводов для того, чтобы организовать раздельное питание обмоток. И все это нужно спроектировать, изготовить и внедрить в уже работающую машину.
В рамках этой задачи необходимо полностью заменить 16 элементов. Это поэтапный процесс. Изготавливаются два новых элемента, после извлечения старых они устанавливаются (с дополнительными токовводами). Извлеченные элементы модернизируются: в них внедряется новая обмотка и устанавливаются дополнительные устройства. Затем цикл повторяется.
Элементы, требующие замены, нельзя назвать физически устаревшими — просто они не соответствуют поставленным задачам. Полная замена всех 16 элементов сразу невозможна по нескольким причинам. Новые элементы стоят значительных средств. Переделать существующие гораздо дешевле. А главное, процесс переделки одного элемента занимает от трех месяцев до полугода. И на время замены ускоритель приходится останавливать.
Параллельно проводятся испытания новых элементов — это задел для будущих проектов. К примеру, вовсю идут проектные работы по "Новому Нуклотрону", который должен будет заменить устаревший «Нуклотрон». Ему уже больше 30 лет — для ускорительной техники это серьезный срок. Через 5−7 лет нам придется решать: либо полностью реконструировать ускоритель (это проблематично, так как ускорительный комплекс придется надолго остановить), либо параллельно строить «Новый Нуклотрон». Основной путь сейчас — это создание «Нового Нуклотрона» с нуля.
Готовится концептуальный проект, параллельно идут испытания прототипов.
Когда появляется запрос на модернизацию?
Можно спроектировать установку так, что ее вообще нельзя будет модернизировать — тогда придется в какой-то момент строить новую. А можно спроектировать ее с расчетом на замену элементов — как в нашем коллайдере. В конструкцию машины на этапе проектирования заложена возможность модернизации: оставлены резервные места для нового оборудования, модули можно относительно быстро и легко демонтировать и установить новые.
Большой объем модернизации заложен изначально, так как на разных этапах жизни ускорителя нужны определенные конфигурации его структуры. Какие-то запросы на изменения возникают на этапе строительства установки и после первых экспериментов с пучком. Ускоритель собирается и запускается по утвержденному техническом проекту, останавливать процесс запуска никто не станет. На этом этапе в журнал изменений вносятся все дополнительные пожелания. После того как станет понятно: базовая конфигурация работает как надо — начинают реализовываться планы модернизации.
Это не касается изменений, критически важных для работы уже на первом пучковом сеансе. Такие изменения могут вноситься до завершения пусконаладки.
Комплекс NICA — это каскад установок. Все началось с линейных ускорителей (если говорить об ускорительной части). Затем появился «Бустер" — сверхпроводящий ускоритель, запущенный в 2020 году. После „Бустера" — "Нуклотрон“. Весь комплекс строится на базе „Нуклотрона“. С "Нуклотрона» пучки могут быть выведены либо в коллайдер, либо в павильон с экспериментальными установками.
Сейчас идет пусконаладка коллайдера, включающая множество этапов.
Вначале расставляются и соединяются структурные элементы ускорителя. Затем начинается цикл испытаний: вакуумные, электрические, криогенные, включая охлаждение магнитных элементов до рабочей температуры — 4,2 К. После этого переходят к работе с пучком. Главное — добиться его первого оборота. Это ключевой момент: если пучок совершил полный оборот, значит, магнитная структура собрана правильно. Только после этого можно постепенно увеличивать энергию и наращивать интенсивность.
После достижения рабочей интенсивности можно переходить к полноценным экспериментам. На этом этапе вводятся в эксплуатацию основные детекторы (до этого используются так называемые настроечные детекторы, работающие с малой интенсивностью и не совсем соответствующие рабочим параметрам). Постепенно, шаг за шагом, все характеристики доводятся до проектных значений.
Только после окончания всех этих этапов можно сказать, что ускоритель работает в соответствии с техническим заданием. Этот процесс занимает не недели и даже не месяцы — он часто растягивается на годы. При этом параллельно осуществляются критически важные для работы ускорителя улучшения, так как становится понятно, какой дополнительный функционал необходимо добавить, например, другую диагностику для лучшего контроля за ускоряемыми частицами. Даже такие относительно небольшие улучшения можно считать полноценной модернизацией, хотя модернизировать то, что еще не построено, вроде бы странно.
Расскажите, пожалуйста, о планах и перспективах вашего направления.
Мы развиваем два основных направления: проводим эксперименты с тяжелыми ядрами и параллельно осуществляем спиновую программу. Необходимо также скорректировать конфигурацию магнитной структуры. Дело в том, что за время, прошедшее после проектирования и составления технического задания, требования к параметрам ускорительной машины претерпели некоторые изменения: возникла потребность в более тонкой настройке магнитных элементов для точного управления пучком. Такой функционал требует изменения системы питания магнитов и добавления дополнительных токовводов для того, чтобы организовать раздельное питание обмоток. И все это нужно спроектировать, изготовить и внедрить в уже работающую машину.
В рамках этой задачи необходимо полностью заменить 16 элементов. Это поэтапный процесс. Изготавливаются два новых элемента, после извлечения старых они устанавливаются (с дополнительными токовводами). Извлеченные элементы модернизируются: в них внедряется новая обмотка и устанавливаются дополнительные устройства. Затем цикл повторяется.
Элементы, требующие замены, нельзя назвать физически устаревшими — просто они не соответствуют поставленным задачам. Полная замена всех 16 элементов сразу невозможна по нескольким причинам. Новые элементы стоят значительных средств. Переделать существующие гораздо дешевле. А главное, процесс переделки одного элемента занимает от трех месяцев до полугода. И на время замены ускоритель приходится останавливать.
Параллельно проводятся испытания новых элементов — это задел для будущих проектов. К примеру, вовсю идут проектные работы по "Новому Нуклотрону", который должен будет заменить устаревший «Нуклотрон». Ему уже больше 30 лет — для ускорительной техники это серьезный срок. Через 5−7 лет нам придется решать: либо полностью реконструировать ускоритель (это проблематично, так как ускорительный комплекс придется надолго остановить), либо параллельно строить «Новый Нуклотрон». Основной путь сейчас — это создание «Нового Нуклотрона» с нуля.
Готовится концептуальный проект, параллельно идут испытания прототипов.
Когда появляется запрос на модернизацию?
Можно спроектировать установку так, что ее вообще нельзя будет модернизировать — тогда придется в какой-то момент строить новую. А можно спроектировать ее с расчетом на замену элементов — как в нашем коллайдере. В конструкцию машины на этапе проектирования заложена возможность модернизации: оставлены резервные места для нового оборудования, модули можно относительно быстро и легко демонтировать и установить новые.
Большой объем модернизации заложен изначально, так как на разных этапах жизни ускорителя нужны определенные конфигурации его структуры. Какие-то запросы на изменения возникают на этапе строительства установки и после первых экспериментов с пучком. Ускоритель собирается и запускается по утвержденному техническом проекту, останавливать процесс запуска никто не станет. На этом этапе в журнал изменений вносятся все дополнительные пожелания. После того как станет понятно: базовая конфигурация работает как надо — начинают реализовываться планы модернизации.
Это не касается изменений, критически важных для работы уже на первом пучковом сеансе. Такие изменения могут вноситься до завершения пусконаладки.
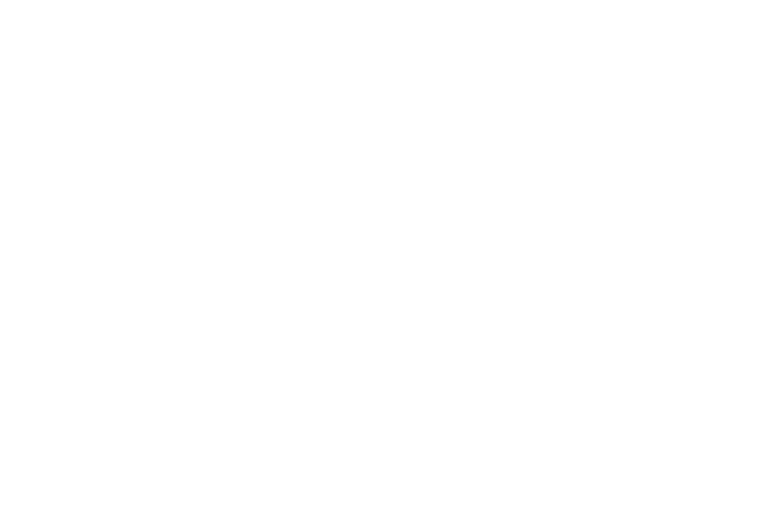
Форинжектор линейного ускорителя легких ионов
Расскажите, пожалуйста, о команде, занимавшейся пусконаладкой коллайдера.
Это примерно 500 человек, прямо или косвенно участвовавших в работах. (Цифра плавающая: на разных этапах подключаются при необходимости дополнительные специалисты.) Важно понимать: это не только те, кто непосредственно работает с «железом», но и программисты, управленцы, логисты. Кстати, львиная доля ресурсов уходит именно на логистику. Часто забывают о том, какой вклад в слаженную работу команды вносят кладовщики, финансисты, снабженцы — без них ни одна гайка не окажется на своем месте.
Технически команда состоит из электриков, вакуумщиков, магнитчиков, криогенщиков, геодезистов и т. д. Теоретическую и документальную поддержку осуществляют ускорительщики, конструкторы, прочнисты.
Возьмем для примера магнитно-криостатную систему — в ее создании были задействованы десятки специалистов разного профиля. Прежде всего, физики, отвечающие за постановку задач; конструкторы, проектирующие узлы и всю сборку; снабженцы и логисты, организующие доставку готовых компонентов; инженеры, отвечающие за то, чтобы все это, будучи собранным вместе, заработало; и наконец, техники-монтажники, непосредственно осуществляющие сборку.
Особая наша гордость — мастерские: там мы производим уникальные изделия. Для этого требуются профессионалы-универсалы: слесари, техники, токари, фрезеровщики — без такого разнообразия специалистов в штате создавать подобные машины было бы невозможно.
С какими институтами вы сотрудничаете?
Основной партнер — Новосибирский ИЯФ, где есть мощная производственная база для создания ускорителей. Они разработали для нас систему электронного охлаждения пучка в «Бустере» — специальное устройство для уменьшения температурного разброса частиц. Сейчас специалисты ИЯФ завершают создание аналогичной системы для коллайдера — это будет самостоятельный электронный ускоритель.
Также ИЯФ поставил на комплекс ВЧ-станции — высокочастотные системы для ускорения и группировки пучка. После поступления частиц в коллайдер они распределяются по всему кольцу. ВЧ-станции при помощи электрических полей формируют сгустки. Кроме того, институт изготовил для коллайдера часть вакуумных камер.
Другой важный партнер — ИТЭФ, создавший для нас структурные элементы линейного ускорителя и станции облучения. Также мы тесно сотрудничаем с рядом промышленных предприятий, такими, как ГелийМаш, КриогенМаш, Казанькомпрессормаш, «Атом», ГКМП, ЭЗАН, и другими.
Что оказалось самым сложным за весь процесс пусконаладки комплекса?
Координация людей. Самое сложное — находить с ними общий язык и выбирать приоритеты. Постоянно приходится переключаться между разными направлениями работы. На одних и тех же участках параллельно могут работать десятки команд. (Только непосредственно на пусконаладке коллайдера задействовано несколько десятков команд по 10–12 человек в каждой.) У каждой — свои задачи и графики. Согласование всех этих процессов — титанический труд. Задач, на решение которых уходит как минимум неделя, — несколько тысяч. Каждую нужно увязать с другими, чтобы весь механизм работал как часы.
Еще одна сложность — работа с поставщиками. Поскольку проект уникальный, мы часто заказываем не серийные, а штучные изделия. Приходится буквально «вести за руку» подрядчиков, особенно тех, кто впервые сталкивается с такими задачами.
Яркий пример — изготовление сверхпроводящего соленоида для MPD (Multi-Purpose Detector, универсальный детектор. — Прим. ред.). Заказали его в Италии. Доставка была сложной: морем, затем — по Волге, потом — автотранспортом. Для SPD (Spin Physics Detector, детектор спиновой физики. — Прим. ред.) мы решили изготовить соленоид в России. Это совершенно уникальная разработка, аналогов ей в стране пока нет.
Работа с подрядчиками — всегда сложный процесс. Хотя компании-партнеры берут на себя определенные обязательства, на практике постоянно возникают нюансы, влияющие на стоимость и сроки.
Яркий пример — изготовление элементов для MPD. Для того чтобы выковать эти огромные цилиндрические конструкции из железа (около 10 метров в диаметре), требовался специальный кузнечный молот. На момент заказа в России не существовало такого молота.
Большинство технических вопросов в принципе решаемы. Главная сложность — временны́е рамки. Мы не можем бесконечно дорабатывать и совершенствовать ускоритель. Поэтому необходимо найти оптимальное решение строго в отведенные сроки.
Это примерно 500 человек, прямо или косвенно участвовавших в работах. (Цифра плавающая: на разных этапах подключаются при необходимости дополнительные специалисты.) Важно понимать: это не только те, кто непосредственно работает с «железом», но и программисты, управленцы, логисты. Кстати, львиная доля ресурсов уходит именно на логистику. Часто забывают о том, какой вклад в слаженную работу команды вносят кладовщики, финансисты, снабженцы — без них ни одна гайка не окажется на своем месте.
Технически команда состоит из электриков, вакуумщиков, магнитчиков, криогенщиков, геодезистов и т. д. Теоретическую и документальную поддержку осуществляют ускорительщики, конструкторы, прочнисты.
Возьмем для примера магнитно-криостатную систему — в ее создании были задействованы десятки специалистов разного профиля. Прежде всего, физики, отвечающие за постановку задач; конструкторы, проектирующие узлы и всю сборку; снабженцы и логисты, организующие доставку готовых компонентов; инженеры, отвечающие за то, чтобы все это, будучи собранным вместе, заработало; и наконец, техники-монтажники, непосредственно осуществляющие сборку.
Особая наша гордость — мастерские: там мы производим уникальные изделия. Для этого требуются профессионалы-универсалы: слесари, техники, токари, фрезеровщики — без такого разнообразия специалистов в штате создавать подобные машины было бы невозможно.
С какими институтами вы сотрудничаете?
Основной партнер — Новосибирский ИЯФ, где есть мощная производственная база для создания ускорителей. Они разработали для нас систему электронного охлаждения пучка в «Бустере» — специальное устройство для уменьшения температурного разброса частиц. Сейчас специалисты ИЯФ завершают создание аналогичной системы для коллайдера — это будет самостоятельный электронный ускоритель.
Также ИЯФ поставил на комплекс ВЧ-станции — высокочастотные системы для ускорения и группировки пучка. После поступления частиц в коллайдер они распределяются по всему кольцу. ВЧ-станции при помощи электрических полей формируют сгустки. Кроме того, институт изготовил для коллайдера часть вакуумных камер.
Другой важный партнер — ИТЭФ, создавший для нас структурные элементы линейного ускорителя и станции облучения. Также мы тесно сотрудничаем с рядом промышленных предприятий, такими, как ГелийМаш, КриогенМаш, Казанькомпрессормаш, «Атом», ГКМП, ЭЗАН, и другими.
Что оказалось самым сложным за весь процесс пусконаладки комплекса?
Координация людей. Самое сложное — находить с ними общий язык и выбирать приоритеты. Постоянно приходится переключаться между разными направлениями работы. На одних и тех же участках параллельно могут работать десятки команд. (Только непосредственно на пусконаладке коллайдера задействовано несколько десятков команд по 10–12 человек в каждой.) У каждой — свои задачи и графики. Согласование всех этих процессов — титанический труд. Задач, на решение которых уходит как минимум неделя, — несколько тысяч. Каждую нужно увязать с другими, чтобы весь механизм работал как часы.
Еще одна сложность — работа с поставщиками. Поскольку проект уникальный, мы часто заказываем не серийные, а штучные изделия. Приходится буквально «вести за руку» подрядчиков, особенно тех, кто впервые сталкивается с такими задачами.
Яркий пример — изготовление сверхпроводящего соленоида для MPD (Multi-Purpose Detector, универсальный детектор. — Прим. ред.). Заказали его в Италии. Доставка была сложной: морем, затем — по Волге, потом — автотранспортом. Для SPD (Spin Physics Detector, детектор спиновой физики. — Прим. ред.) мы решили изготовить соленоид в России. Это совершенно уникальная разработка, аналогов ей в стране пока нет.
Работа с подрядчиками — всегда сложный процесс. Хотя компании-партнеры берут на себя определенные обязательства, на практике постоянно возникают нюансы, влияющие на стоимость и сроки.
Яркий пример — изготовление элементов для MPD. Для того чтобы выковать эти огромные цилиндрические конструкции из железа (около 10 метров в диаметре), требовался специальный кузнечный молот. На момент заказа в России не существовало такого молота.
Большинство технических вопросов в принципе решаемы. Главная сложность — временны́е рамки. Мы не можем бесконечно дорабатывать и совершенствовать ускоритель. Поэтому необходимо найти оптимальное решение строго в отведенные сроки.
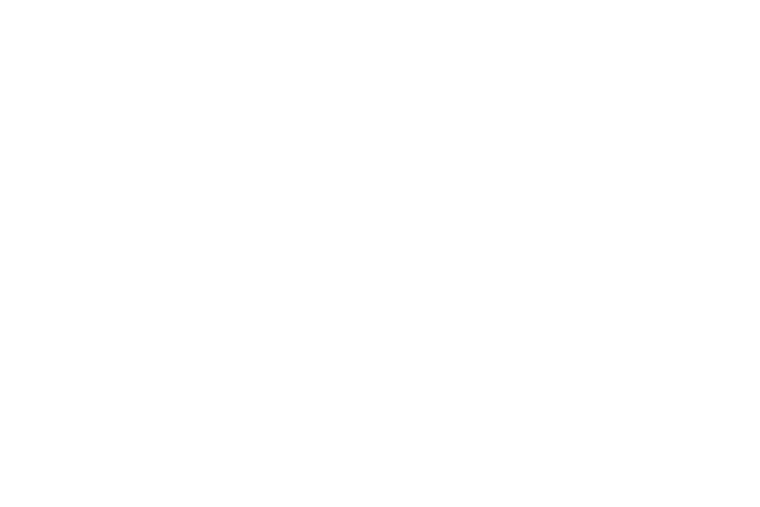
Модуль с дипольным магнитом коллайдера
Приходят ли к вам студенты на практику?
Приходят, но в нашей команде сейчас затишье — мы слишком заняты запуском ускорителя. А те студенты, которые приходили раньше, уже стали специалистами и активно включены работу. Зато в других подразделениях, особенно у физиков, студентов очень много.
Вообще за последние 5−8 лет институт сильно помолодел. Когда я пришел сюда 15 лет назад, молодых специалистов было мало. Сейчас их средний возраст значительно снизился. Проект стал более масштабным и привлекательным: построен новый ускоритель, можно ставить эксперименты. Люди приходят разные: кто-то из науки, кто-то — из коммерции.
Ребята приезжают со всей России: из Казани, Томска, Костромы, других городов. Если человек готов к переезду, то он, как правило, настроен серьезно. Мотивация нового сотрудника важнее рейтинга вуза, который он закончил. Часто бывает, что выпускники менее известных вузов на наших проектах достигают большего, чем выпускники топовых университетов.
Какие качества необходимы новым сотрудникам для того, чтобы работать в такой большой междисциплинарной команде?
Прежде всего — самоорганизация. В институте нет такой жесткой производственной структуры, как на предприятии. Ежедневно приходится сталкиваться с новыми задачами: анализом данных, разработкой экспериментальных установок, поиском нестандартных решений технических проблем. Без умения планировать свое время и расставлять приоритеты легко утонуть в потоке задач.
Научная работа — это постоянный поиск. Руководители (многие из них совмещают работу в ОИЯИ с преподаванием в вузах) не будут разжевывать каждое задание. Подход такой: «Вот тебе проблема — разбирайся». Если не проявишь инициативу, не задашь правильные вопросы, не предложишь решения — так и просидишь месяцы без реального прогресса.
Наш проект междисциплинарный: приходится одновременно разбираться в физике ускорителей, вакуумной технике, криогенике, материаловедении. Сегодня ты анализируешь данные экспериментов, завтра обсуждаешь с инженерами конструкцию нового детектора, послезавтра изучаешь спецификации сверхпроводящих кабелей. Важно уметь быстро переключаться между разными областями знаний.
Самостоятельность важна, но и без взаимодействия с коллегами никуда. Над одним проектом могут одновременно работать физики-теоретики, инженеры, техники, программисты. Нужно уметь объяснять сложные вещи простым языком, слушать других и находить компромиссы.
Есть ли у вас профессиональная мечта?
Было бы интересно поучаствовать в создании двигателей для космических полетов. Многие технологии, используемые в ускорительной технике, применимы и в космической сфере…
Приходят, но в нашей команде сейчас затишье — мы слишком заняты запуском ускорителя. А те студенты, которые приходили раньше, уже стали специалистами и активно включены работу. Зато в других подразделениях, особенно у физиков, студентов очень много.
Вообще за последние 5−8 лет институт сильно помолодел. Когда я пришел сюда 15 лет назад, молодых специалистов было мало. Сейчас их средний возраст значительно снизился. Проект стал более масштабным и привлекательным: построен новый ускоритель, можно ставить эксперименты. Люди приходят разные: кто-то из науки, кто-то — из коммерции.
Ребята приезжают со всей России: из Казани, Томска, Костромы, других городов. Если человек готов к переезду, то он, как правило, настроен серьезно. Мотивация нового сотрудника важнее рейтинга вуза, который он закончил. Часто бывает, что выпускники менее известных вузов на наших проектах достигают большего, чем выпускники топовых университетов.
Какие качества необходимы новым сотрудникам для того, чтобы работать в такой большой междисциплинарной команде?
Прежде всего — самоорганизация. В институте нет такой жесткой производственной структуры, как на предприятии. Ежедневно приходится сталкиваться с новыми задачами: анализом данных, разработкой экспериментальных установок, поиском нестандартных решений технических проблем. Без умения планировать свое время и расставлять приоритеты легко утонуть в потоке задач.
Научная работа — это постоянный поиск. Руководители (многие из них совмещают работу в ОИЯИ с преподаванием в вузах) не будут разжевывать каждое задание. Подход такой: «Вот тебе проблема — разбирайся». Если не проявишь инициативу, не задашь правильные вопросы, не предложишь решения — так и просидишь месяцы без реального прогресса.
Наш проект междисциплинарный: приходится одновременно разбираться в физике ускорителей, вакуумной технике, криогенике, материаловедении. Сегодня ты анализируешь данные экспериментов, завтра обсуждаешь с инженерами конструкцию нового детектора, послезавтра изучаешь спецификации сверхпроводящих кабелей. Важно уметь быстро переключаться между разными областями знаний.
Самостоятельность важна, но и без взаимодействия с коллегами никуда. Над одним проектом могут одновременно работать физики-теоретики, инженеры, техники, программисты. Нужно уметь объяснять сложные вещи простым языком, слушать других и находить компромиссы.
Есть ли у вас профессиональная мечта?
Было бы интересно поучаствовать в создании двигателей для космических полетов. Многие технологии, используемые в ускорительной технике, применимы и в космической сфере…
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

