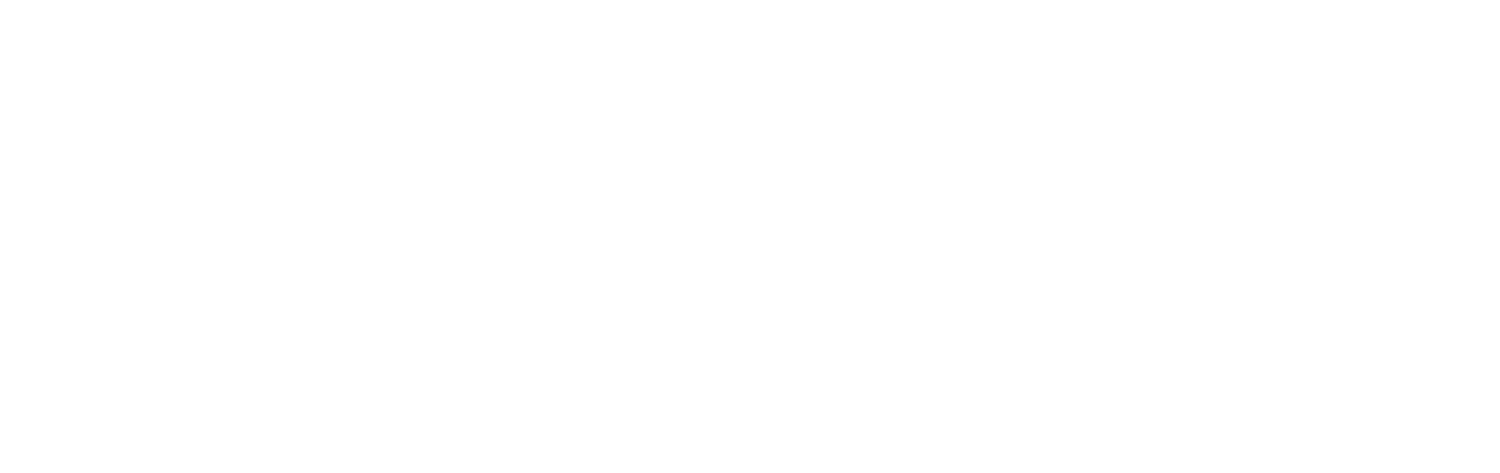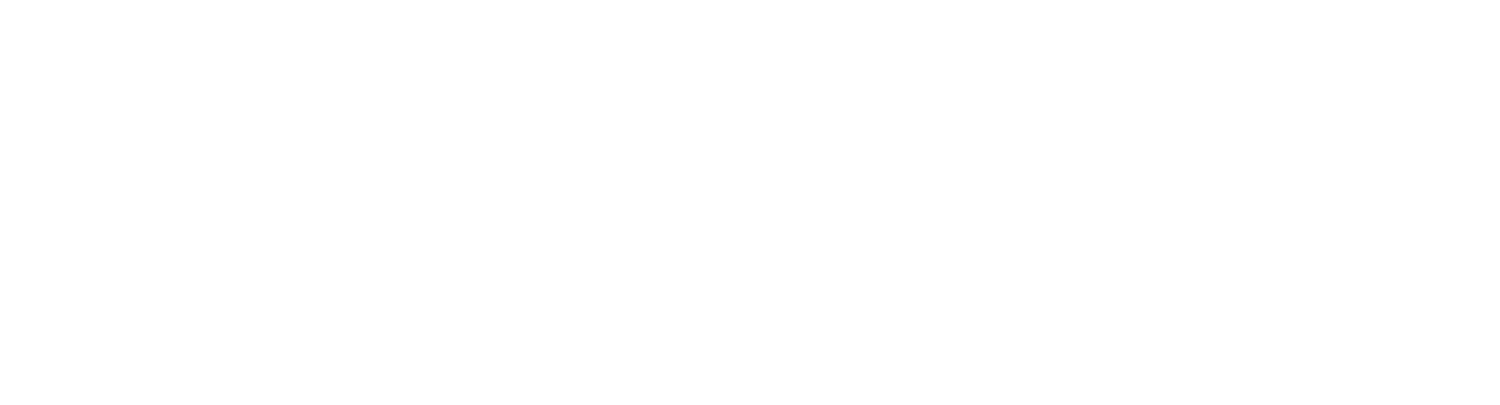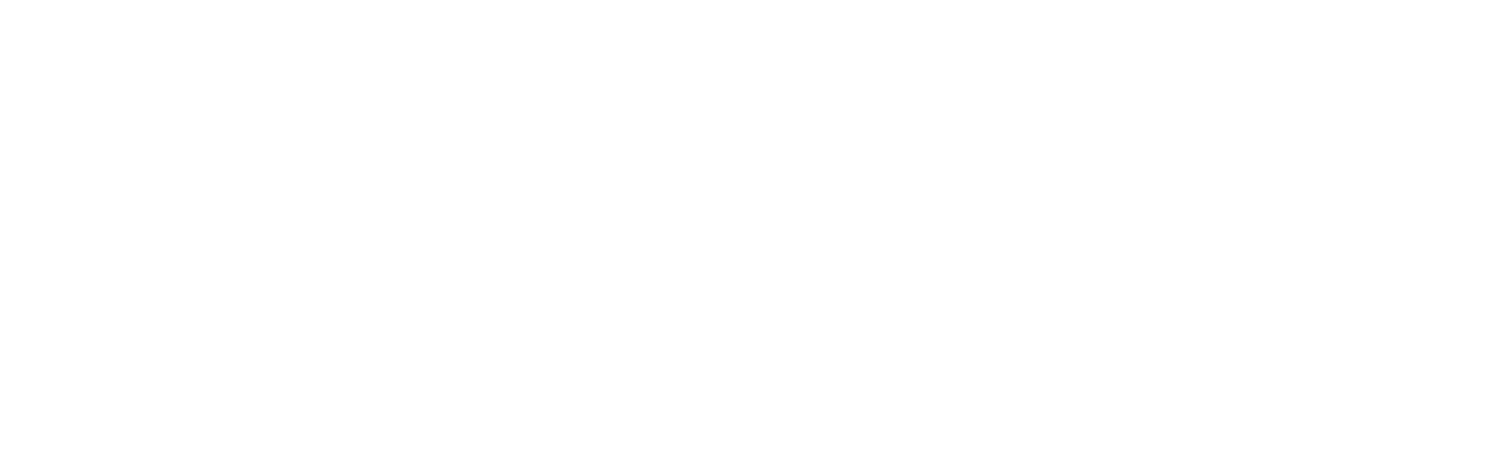Лидерство по-научному
НАУКА / #8_2025
Текст: Наталия АНДРЕЕВА / Фото: Unsplash, ГК «Росатом»
Технологический суверенитет без науки — деньги на ветер, поэтому во многих странах в разгаре «суверенизация» исследований и разработок. Правда, проблем пока больше, чем готовых решений.
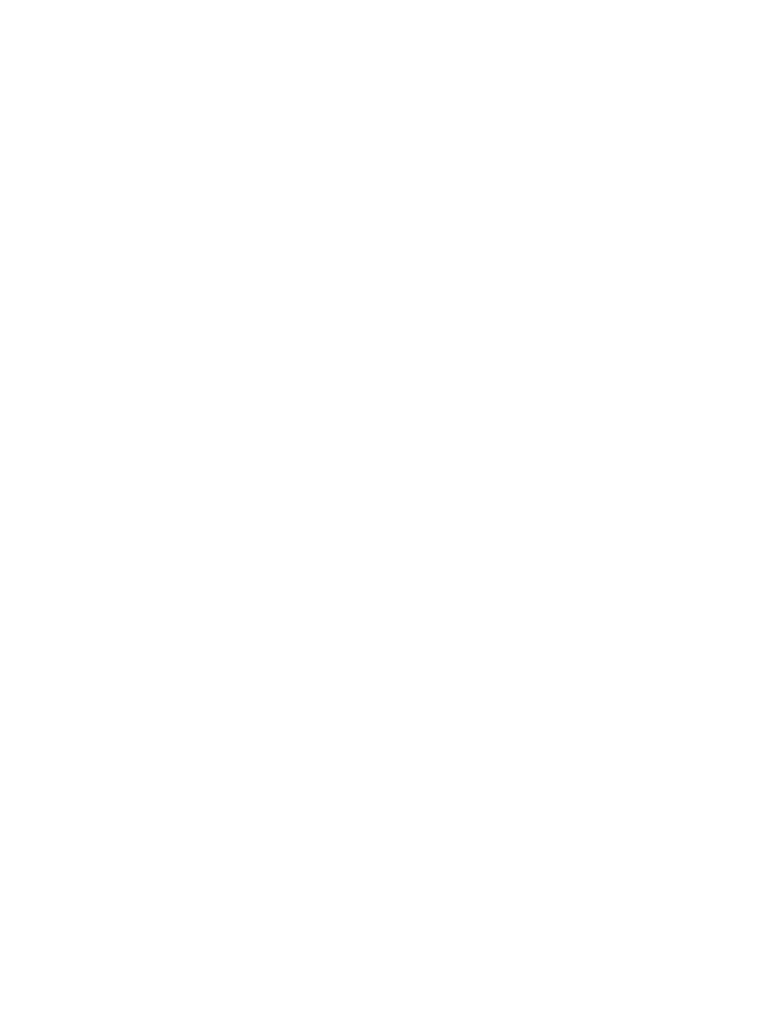
Общемировой тренд на расширение и углубление технологического суверенитета, естественно, коснулся и науки как неотъемлемого компонента национальных экосистем производства и утилизации нового знания. Гонка за научной суверенностью пока привлекает меньше общественного внимания, чем реиндустриализация и сопутствующие торговые ограничения; а между тем научный суверенитет — история не менее сложная, чем суверенитет промышленный.
Для начала, страны, претендующие на технологический и научный суверенитет, а то и на лидерство, стартуют с очень разных «научных» позиций — как с точки зрения наличия высокотехнологичной промышленности, способной сделать хоть что-то осмысленное с научными результатами и обеспечить их конверсию в высокотехнологичные продукты, так и с точки зрения научного задела по новым/критическим технологиям.
И если с промышленностью в большинстве развитых стран все, прямо скажем, нехорошо, то с научным заделом и перспективами его наработки плохо чуть менее чем у всех.
В частности, по абсолютному большинству научных направлений, связанных с 60+ критическими технологиями, лидируют Китай и США, причем с таким отрывом, что все остальные страны кажутся статистической погрешностью. Исключения есть, но их можно пересчитать по пальцам. Например, Индия занимает второе место по объему научного задела в передовых композиционных материалах, технологиях распределенного реестра, ячеистой сетевой топологии, биотехнологиях для промышленных применений и пр.
Ситуация с дефицитом научного задела осложняется самим устройством экономики современной науки: затраты на науку и инновации всех родов и видов растут, а продуктивность научно-исследовательского комплекса (если измерять ее не в научных статьях, а, скажем, в количестве новых продуктов или по обычному принципу возврата инвестиций) постоянно падает, причем быстрее всего — в инновационно-емких отраслях.
Например, в США, по данным Национального бюро экономических исследований (NBER), с 1971 года продуктивность R&D в микроэлектронике снижалась в среднем на 6,8 % в год и к середине 2010‑х упала в 18 раз, в фармацевтике — на 3,5 %, в сельском хозяйстве — на 4−6 %, а в среднем по всем научным направлениям/отраслям экономики — на 5,3 % в год.
(При этом оценки эффективности государственных инвестиций в R&D разнятся вплоть до диаметрально противоположных; но в тех же США, если верить отдельным исследованиям, отдача от госвложений в науку все же падает медленнее, чем отдача от частных R&D.)
Причин падения R&D-продуктивности множество, начиная с естественного жизненного цикла отраслей, компаний и продуктов (проблему падающей отдачи en masse никто не отменял) и заканчивая макроэкономической ситуацией, результирующей в стагнацию или сокращение реальных затрат государств на науку и инновации.
Фактически для большинства стран задача быстрой самостоятельной наработки научного задела в критических/новых технологиях, нужных для техсуверенитета, не имеет решения: для этого просто нет достаточного количества ресурсов (денег, людей, времени, механизмов и пр.).
И единственные доступные действия в таких условиях, если речь не про Китай и США, — выбор специализации и жесткая приоритезация научно-исследовательских государственных бюджетов. В такой логике, например, какое-то время назад начал работать Иран — и к середине 2020‑х вошел в топ‑10 стран по качественному научному заделу в приоритетных технологических направлениях: БПЛА (восьмое место в мире), композиционных материалах (пятое), фотовольтаике (седьмое), водородных технологиях (шестое) и пр.
Если оставить за скобками очевидную проблему денег, людей и приоритетов, то страны, претендующие на технологический суверенитет, работают еще с двумя проблемными зонами, причем обе мало обсуждаются публично, зато хорошо видны на срезе реализуемых научно-технологических политик.
Для начала, страны, претендующие на технологический и научный суверенитет, а то и на лидерство, стартуют с очень разных «научных» позиций — как с точки зрения наличия высокотехнологичной промышленности, способной сделать хоть что-то осмысленное с научными результатами и обеспечить их конверсию в высокотехнологичные продукты, так и с точки зрения научного задела по новым/критическим технологиям.
И если с промышленностью в большинстве развитых стран все, прямо скажем, нехорошо, то с научным заделом и перспективами его наработки плохо чуть менее чем у всех.
В частности, по абсолютному большинству научных направлений, связанных с 60+ критическими технологиями, лидируют Китай и США, причем с таким отрывом, что все остальные страны кажутся статистической погрешностью. Исключения есть, но их можно пересчитать по пальцам. Например, Индия занимает второе место по объему научного задела в передовых композиционных материалах, технологиях распределенного реестра, ячеистой сетевой топологии, биотехнологиях для промышленных применений и пр.
Ситуация с дефицитом научного задела осложняется самим устройством экономики современной науки: затраты на науку и инновации всех родов и видов растут, а продуктивность научно-исследовательского комплекса (если измерять ее не в научных статьях, а, скажем, в количестве новых продуктов или по обычному принципу возврата инвестиций) постоянно падает, причем быстрее всего — в инновационно-емких отраслях.
Например, в США, по данным Национального бюро экономических исследований (NBER), с 1971 года продуктивность R&D в микроэлектронике снижалась в среднем на 6,8 % в год и к середине 2010‑х упала в 18 раз, в фармацевтике — на 3,5 %, в сельском хозяйстве — на 4−6 %, а в среднем по всем научным направлениям/отраслям экономики — на 5,3 % в год.
(При этом оценки эффективности государственных инвестиций в R&D разнятся вплоть до диаметрально противоположных; но в тех же США, если верить отдельным исследованиям, отдача от госвложений в науку все же падает медленнее, чем отдача от частных R&D.)
Причин падения R&D-продуктивности множество, начиная с естественного жизненного цикла отраслей, компаний и продуктов (проблему падающей отдачи en masse никто не отменял) и заканчивая макроэкономической ситуацией, результирующей в стагнацию или сокращение реальных затрат государств на науку и инновации.
Фактически для большинства стран задача быстрой самостоятельной наработки научного задела в критических/новых технологиях, нужных для техсуверенитета, не имеет решения: для этого просто нет достаточного количества ресурсов (денег, людей, времени, механизмов и пр.).
И единственные доступные действия в таких условиях, если речь не про Китай и США, — выбор специализации и жесткая приоритезация научно-исследовательских государственных бюджетов. В такой логике, например, какое-то время назад начал работать Иран — и к середине 2020‑х вошел в топ‑10 стран по качественному научному заделу в приоритетных технологических направлениях: БПЛА (восьмое место в мире), композиционных материалах (пятое), фотовольтаике (седьмое), водородных технологиях (шестое) и пр.
Если оставить за скобками очевидную проблему денег, людей и приоритетов, то страны, претендующие на технологический суверенитет, работают еще с двумя проблемными зонами, причем обе мало обсуждаются публично, зато хорошо видны на срезе реализуемых научно-технологических политик.
Топ-8 стран по качеству научного задела в новых/критических технологиях (доля в высококачественных научных публикациях, 2019−2023, %)
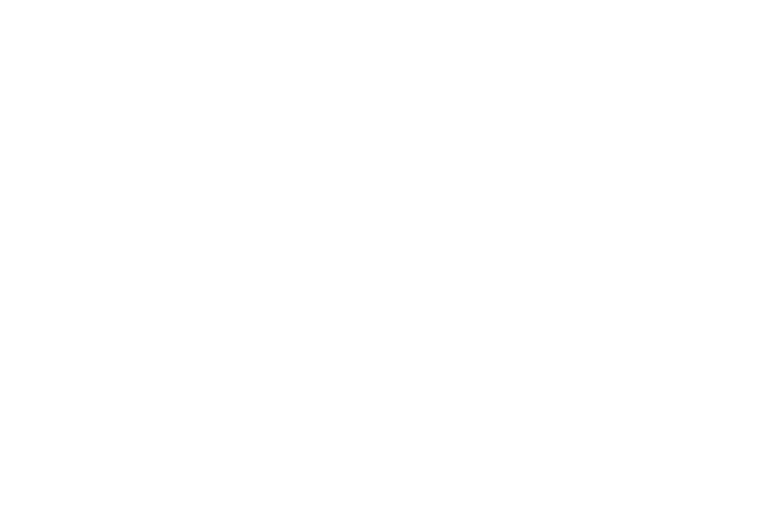
Новое
Первая проблема суверенной науки — механизмы и инструменты поиска нового (потенциально прорывных разработок/инноваций). Проблема эта стара, как сама система госфинансирования исследований и разработок, и складывается из трех основных составляющих.
Во-первых, национальные системы отбора научных проектов «для государственного финансирования» естественным образом стигматизируют любые идеи и направления, не попадающие в мейнстрим: с точки зрения госслужащего, принимающего решение об одобрении или неодобрении условного гранта, проще раздать имеющиеся фонды условно-надежным командам. Или в инвестиционной логике: лучше низкий риск и понятный результат, о котором можно отчитаться, чем высокий риск и неиллюзорный шанс попасть под статью.
(О необходимости права на риск в части околонаучных и технологических госинвестиций говорят уже давно, и не только в России, но на практике этот подход пытаются реализовать буквально в паре мест.)
Во-вторых, система оценки предлагаемых исследований и разработок (peer review и научная экспертиза) столь же естественным образом работает на уже сложившиеся научные школы и (назовем вещи своими именами) научно-административные группы влияния, а не на молодых и дерзких.
И в‑третьих, сегодня количество технологических и научных областей, способных перевернуть рынки, настолько велико, что проинвестировать в реально прорывную тему государства могут разве что случайно. А между тем, для того чтобы в стране в 2035 году появились прорывные хайтек-продукты мирового уровня, подкладывать научно-технологическую соломку нужно уже сейчас.
Именно поэтому поиском нового в той или иной форме заняты многие страны — научные и технологические лидеры.
Самые четкие и резкие решения, как обычно, принимаются в Китае.
В 2025 году китайские коллеги начали апробировать новый формат поиска и отбора потенциально прорывных научно-исследовательских проектов в рамках трека «Прорывные технологии» национальной программы ключевых R&D-проектов (министерство науки и технологий + Национальный научный фонд КНР).
Первая проблема суверенной науки — механизмы и инструменты поиска нового (потенциально прорывных разработок/инноваций). Проблема эта стара, как сама система госфинансирования исследований и разработок, и складывается из трех основных составляющих.
Во-первых, национальные системы отбора научных проектов «для государственного финансирования» естественным образом стигматизируют любые идеи и направления, не попадающие в мейнстрим: с точки зрения госслужащего, принимающего решение об одобрении или неодобрении условного гранта, проще раздать имеющиеся фонды условно-надежным командам. Или в инвестиционной логике: лучше низкий риск и понятный результат, о котором можно отчитаться, чем высокий риск и неиллюзорный шанс попасть под статью.
(О необходимости права на риск в части околонаучных и технологических госинвестиций говорят уже давно, и не только в России, но на практике этот подход пытаются реализовать буквально в паре мест.)
Во-вторых, система оценки предлагаемых исследований и разработок (peer review и научная экспертиза) столь же естественным образом работает на уже сложившиеся научные школы и (назовем вещи своими именами) научно-административные группы влияния, а не на молодых и дерзких.
И в‑третьих, сегодня количество технологических и научных областей, способных перевернуть рынки, настолько велико, что проинвестировать в реально прорывную тему государства могут разве что случайно. А между тем, для того чтобы в стране в 2035 году появились прорывные хайтек-продукты мирового уровня, подкладывать научно-технологическую соломку нужно уже сейчас.
Именно поэтому поиском нового в той или иной форме заняты многие страны — научные и технологические лидеры.
Самые четкие и резкие решения, как обычно, принимаются в Китае.
В 2025 году китайские коллеги начали апробировать новый формат поиска и отбора потенциально прорывных научно-исследовательских проектов в рамках трека «Прорывные технологии» национальной программы ключевых R&D-проектов (министерство науки и технологий + Национальный научный фонд КНР).
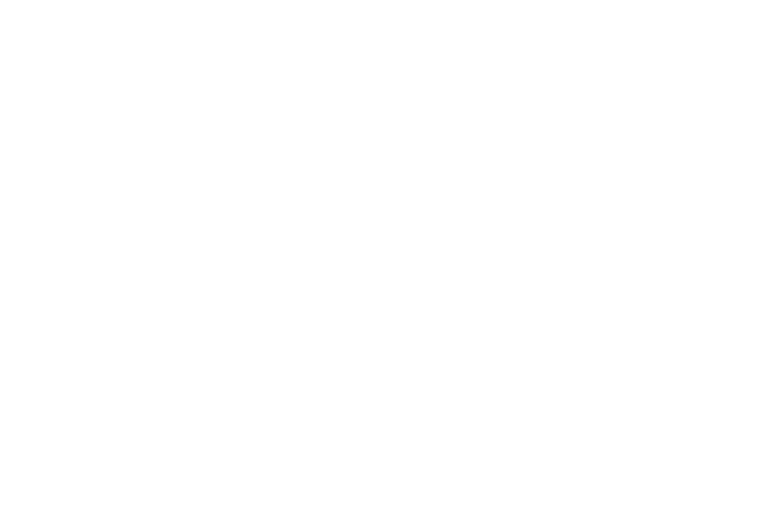
На фоне традиционно жестких требований к научно-технологическим проектам трек выглядит, мягко говоря, кардинально новым.
Во-первых, он фокусируется на актуальных для Китая «экономических фронтирах» и решении ключевых национальных задач; основная цель — появление и развитие новых индустрий, бизнес-моделей и методов обеспечения продуктивности/эффективности.
Во-вторых, он сформирован и реализуется как управленчески-поисковая программа, в которой нет жестких организационных рамок и детализированных требований к проектам, только базовые:
В-третьих, он реализуется не реактивно, а проактивно: операторы программы — три Центра прорывных инноваций (Пекин–Тяньцзинь–Хэбей, Гуанчжоу, Шанхай) — могут искать подходящие проекты самостоятельно, где и как угодно (научные статьи, заявленные в других программах научно-исследовательские проекты, конференции и пр.). Помимо самостоятельного поиска, предусмотрены специализированные конкурсы и постоянный прием а) заявок на финансирование, б) предложений и идей проектов/технологий от известных ученых, венчурных фондов, муниципальных и городских администраций и пр.
В-четвертых, отсутствуют формальные требования к руководителям проектов: для заявки и победы не нужны ни академические регалии, ни высокий Хирш, ни миллион статей в журналах первого квартиля, ни «подходящий» возраст; руководителями могут быть даже иностранные специалисты, работающие в китайских университетах и научных центрах.
(Решение о создании специализированного механизма, позволяющего финансировать неконвенциональные/потенциально прорывные научно-технологические проекты, было принято в 2024 году на уровне Центрального комитета КПК; в 2025‑м механизм был разработан и реализован в рамках спецтрека поддержки таких проектов в Национальном научном фонде.)
Во-первых, он фокусируется на актуальных для Китая «экономических фронтирах» и решении ключевых национальных задач; основная цель — появление и развитие новых индустрий, бизнес-моделей и методов обеспечения продуктивности/эффективности.
Во-вторых, он сформирован и реализуется как управленчески-поисковая программа, в которой нет жестких организационных рамок и детализированных требований к проектам, только базовые:
- ориентация на приоритетные для Китая технологические области: микроэлектронику (включая наносистемы), ИИ, новое научное оборудование, науки о жизни, медицину, энергетику, «зеленые» и новые производственные технологии; причем это единственное жесткое требование к проектам, претендующим на финансирование;
- наличие сценариев применения предлагаемых технологий в экономике и обществе, причем не абстрактно, а конкретно, с указанием того, какая отрасль и за счет чего выиграет от применения продуктов на основе технологии, или того, какая отрасль может появиться после разработки и масштабирования технологии;
- подтвержденный интерес отрасли/отраслей к предлагаемым решениям: потенциальный спрос должен быть масштабным, по меньшей мере, в среднесрочной перспективе и основываться на имеющихся технологических дефицитах;
- проработанная дорожная карта развития технологии, основанной на новой теоретической базе или глубоко междисциплинарной и, в потенциале, «убивающей» какие-то из технологий, имеющихся на рынке;
- эксклюзивность, в том числе в плане интеллектуальной собственности, которая сможет дать компаниям и Китаю в целом конкурентное преимущество на значимый срок.
В-третьих, он реализуется не реактивно, а проактивно: операторы программы — три Центра прорывных инноваций (Пекин–Тяньцзинь–Хэбей, Гуанчжоу, Шанхай) — могут искать подходящие проекты самостоятельно, где и как угодно (научные статьи, заявленные в других программах научно-исследовательские проекты, конференции и пр.). Помимо самостоятельного поиска, предусмотрены специализированные конкурсы и постоянный прием а) заявок на финансирование, б) предложений и идей проектов/технологий от известных ученых, венчурных фондов, муниципальных и городских администраций и пр.
В-четвертых, отсутствуют формальные требования к руководителям проектов: для заявки и победы не нужны ни академические регалии, ни высокий Хирш, ни миллион статей в журналах первого квартиля, ни «подходящий» возраст; руководителями могут быть даже иностранные специалисты, работающие в китайских университетах и научных центрах.
(Решение о создании специализированного механизма, позволяющего финансировать неконвенциональные/потенциально прорывные научно-технологические проекты, было принято в 2024 году на уровне Центрального комитета КПК; в 2025‑м механизм был разработан и реализован в рамках спецтрека поддержки таких проектов в Национальном научном фонде.)
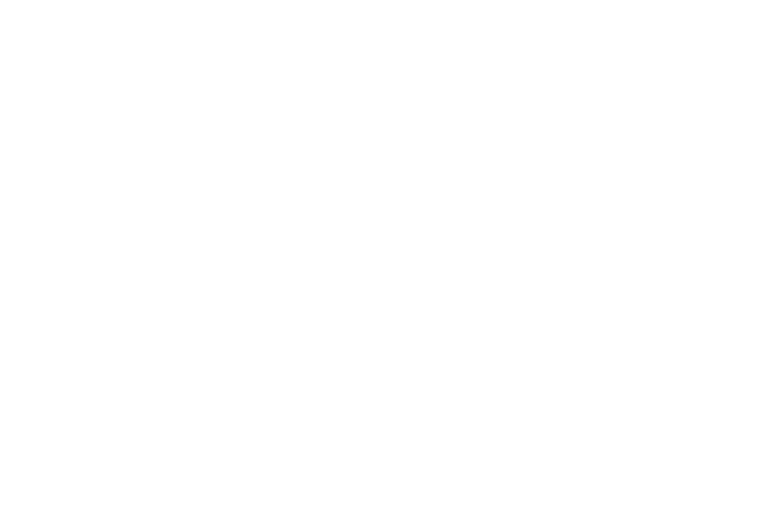
Остальные участники научно-технологической гонки, похоже, пока не готовы к столь радикальным решениям и переменам.
Ближе всего к китайским амбициям в части работы с новым подошла Германия: в ноябре 2024 года был запущен эксперимент по созданию Агентства трансфера и инноваций (DATI), который должен был продлиться до 2029 года.
Концепция DATI выглядела логичной: поскольку быстрый трансфер технологий в экономику/продукты был и остается одной из проблем немецкого научно-технологического комплекса, агентство должно было финансировать проекты трансфера по совершенно новым [для Германии] принципам.
Предполагалось, что у агентства (и трансфера) не будет тематической фокусировки — проекты должны были отбираться по принципу инновационности, по методикам, больше всего напоминающим венчурные: краткие описания, экспертный отбор, питч-сессии (для вторичного отбора), финансирование. Для проектов, не прошедших вторичный отбор, был предусмотрен механизм «лотереи»: деньги должны были получать несколько случайно выбранных проектов из верха списка.
Но к сентябрю 2025 года эксперимент с DATI был свернут без объяснения причин (помимо очевидной — реорганизации немецких федеральных министерств и ведомств).
В Соединенных Штатах, что интересно, поиском R&D для следующей технологической волны сейчас занимается не администрация, а научное сообщество.
В частности, в июне 2025 года в ежегодном докладе «О состоянии науки» президент Академии наук США Марша МакНатт обозначила в качестве одной из основных проблем исследований и разработок устаревшую систему раздачи финансирования с peer review и прочими ограничениями, консервирующими сложившиеся научные школы и неформальные взаимосвязи и не дающие появляться новому.
Конкретных предложений у американских коллег пока нет; были озвучены несколько вариантов решения проблемы, начиная с изменения процедур peer review и заканчивая использованием альтернативных способов отбора, вплоть до "научных лотерей" (по аналогии с прекращенным экспериментом с агентством DATI в Германии).
Идеи научной автономии и гибкого финансирования частично удалось реализовать Великобритании: с 2024 года в стране работает Агентство прорывных инноваций (ARIA), деятельность которого чуть менее чем полностью определяется директорами программ — известными учеными и/или инноваторами, признанными лидерами в своих научных/технологических областях, практически единолично принимающими решения о финансировании исследований и разработок в соответствующих сферах, как в формате масштабных проектных программ (£10−100 млн), так и в формате «посевных» инвестиций в научные команды и проекты (до £500 тыс.).
Помимо высокой автономии в принятии инвестиционных решений у ARIA есть особенность, кардинально отличающая агентство от любых его аналогов: в концепцию и организационную конструкцию ARIA заложено «право на риск», которого жаждут все окологосударственные структуры, инвестирующие в сложное и неочевидное. Ожидаемый уровень неудачных (закрываемых или существенно меняющихся) проектов в агентстве — 30−50 % всех инициатив; при этом право на провал прописывается в соглашениях о предоставлении финансирования между агентством и научными/инновационными командами.
Ближе всего к китайским амбициям в части работы с новым подошла Германия: в ноябре 2024 года был запущен эксперимент по созданию Агентства трансфера и инноваций (DATI), который должен был продлиться до 2029 года.
Концепция DATI выглядела логичной: поскольку быстрый трансфер технологий в экономику/продукты был и остается одной из проблем немецкого научно-технологического комплекса, агентство должно было финансировать проекты трансфера по совершенно новым [для Германии] принципам.
Предполагалось, что у агентства (и трансфера) не будет тематической фокусировки — проекты должны были отбираться по принципу инновационности, по методикам, больше всего напоминающим венчурные: краткие описания, экспертный отбор, питч-сессии (для вторичного отбора), финансирование. Для проектов, не прошедших вторичный отбор, был предусмотрен механизм «лотереи»: деньги должны были получать несколько случайно выбранных проектов из верха списка.
Но к сентябрю 2025 года эксперимент с DATI был свернут без объяснения причин (помимо очевидной — реорганизации немецких федеральных министерств и ведомств).
В Соединенных Штатах, что интересно, поиском R&D для следующей технологической волны сейчас занимается не администрация, а научное сообщество.
В частности, в июне 2025 года в ежегодном докладе «О состоянии науки» президент Академии наук США Марша МакНатт обозначила в качестве одной из основных проблем исследований и разработок устаревшую систему раздачи финансирования с peer review и прочими ограничениями, консервирующими сложившиеся научные школы и неформальные взаимосвязи и не дающие появляться новому.
Конкретных предложений у американских коллег пока нет; были озвучены несколько вариантов решения проблемы, начиная с изменения процедур peer review и заканчивая использованием альтернативных способов отбора, вплоть до "научных лотерей" (по аналогии с прекращенным экспериментом с агентством DATI в Германии).
Идеи научной автономии и гибкого финансирования частично удалось реализовать Великобритании: с 2024 года в стране работает Агентство прорывных инноваций (ARIA), деятельность которого чуть менее чем полностью определяется директорами программ — известными учеными и/или инноваторами, признанными лидерами в своих научных/технологических областях, практически единолично принимающими решения о финансировании исследований и разработок в соответствующих сферах, как в формате масштабных проектных программ (£10−100 млн), так и в формате «посевных» инвестиций в научные команды и проекты (до £500 тыс.).
Помимо высокой автономии в принятии инвестиционных решений у ARIA есть особенность, кардинально отличающая агентство от любых его аналогов: в концепцию и организационную конструкцию ARIA заложено «право на риск», которого жаждут все окологосударственные структуры, инвестирующие в сложное и неочевидное. Ожидаемый уровень неудачных (закрываемых или существенно меняющихся) проектов в агентстве — 30−50 % всех инициатив; при этом право на провал прописывается в соглашениях о предоставлении финансирования между агентством и научными/инновационными командами.
Направления финансирования научных проектов в ARIA (Великобритания)
- Инжиниринг устойчивых экосистем: инновационные решения для мониторинга окружающей среды и планирования экстренных «интервенций» (в том числе для поддержки биоразнообразия).
- Промышленные технологии: материалы, программируемые и производимые на молекулярном уровне.
- Технологии доверия: криптография, кибербезопасность, работа киберфизических систем.
- Развитие врожденного иммунитета [у человека]: новые технологии работы с иммунной системой.
- Инжиниринг «биоэнергетических» систем: технологии работы с митохондриями для решения широкого спектра проблем (медицинские, производственные и пр.).
- Масштабируемые нейроинтерфейсы: неинвазивные и малоинвазивные технологии для работы с человеческим мозгом (в том числе нейродегенеративными заболеваниями).
- «Программируемые» растения: безопасный генетический инжиниринг сельскохозяйственных культур.
- Математические решения/модели для безопасного ИИ.
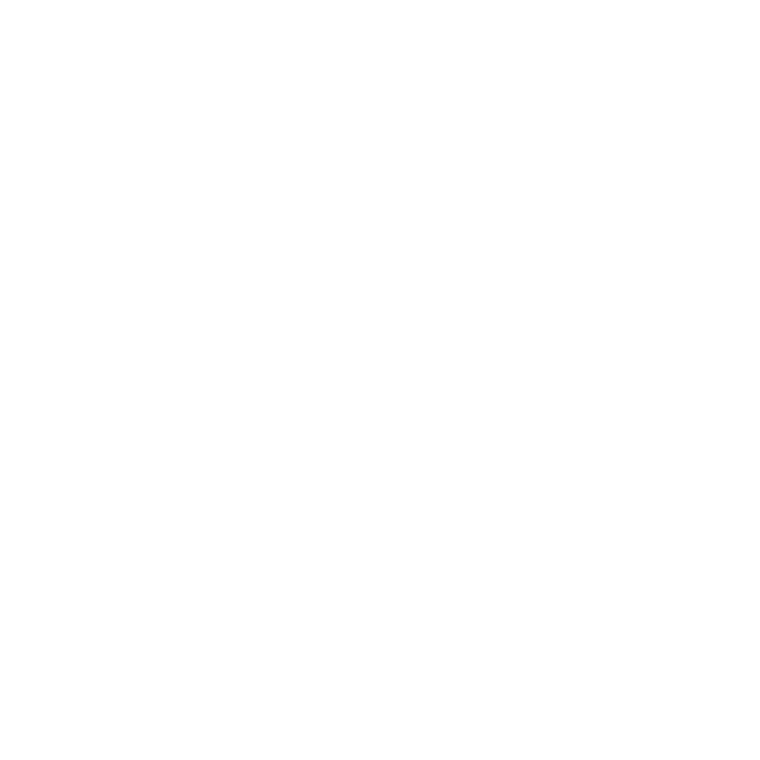
Инфраструктура
Вторая неочевидная проблема научного суверенитета — это проблема высокотехнологичных научных инфраструктур, которая лучше всего видна на примере исследовательских установок мегакласса.
Потенциальных «бутылочных горлышек» для научного суверенитета тут, собственно, три: 1) запредельная стоимость строительства, требующая либо китайской/американской финансовой мощи, либо участия нескольких стран-инвесторов; 2) оборудование (самое высокотехнологичное из возможных); 3) необходимость тематической диверсификации, пока очевидная не всем — крупных исследовательских инфраструктур сегодня требует не только традиционная физика (частицы, высокие энергии и т. д.), но и целый ряд других областей: биотех, геология и пр.
Диверсификация большой науки уже заметна.
В планах Китая — создание 20+ новых мегасайенс-установок по широкому спектру научных направлений, начиная с био- и медицинских технологий (национальные лаборатории моделирования человеческих органов в Пекине, клеточных технологий в Гуанчжоу и пр.) и заканчивая экспериментальной физикой (вторая очередь создания инфраструктур импульсного ускорительного источника нейтронов в Шэньчжэне и пр.). При этом в стране уже работают несколько крупных научных центров, связанных с искусственным интеллектом, который, в числе прочего, рассматривается как новый тип цифровой научной инфраструктуры.
Вторая неочевидная проблема научного суверенитета — это проблема высокотехнологичных научных инфраструктур, которая лучше всего видна на примере исследовательских установок мегакласса.
Потенциальных «бутылочных горлышек» для научного суверенитета тут, собственно, три: 1) запредельная стоимость строительства, требующая либо китайской/американской финансовой мощи, либо участия нескольких стран-инвесторов; 2) оборудование (самое высокотехнологичное из возможных); 3) необходимость тематической диверсификации, пока очевидная не всем — крупных исследовательских инфраструктур сегодня требует не только традиционная физика (частицы, высокие энергии и т. д.), но и целый ряд других областей: биотех, геология и пр.
Диверсификация большой науки уже заметна.
В планах Китая — создание 20+ новых мегасайенс-установок по широкому спектру научных направлений, начиная с био- и медицинских технологий (национальные лаборатории моделирования человеческих органов в Пекине, клеточных технологий в Гуанчжоу и пр.) и заканчивая экспериментальной физикой (вторая очередь создания инфраструктур импульсного ускорительного источника нейтронов в Шэньчжэне и пр.). При этом в стране уже работают несколько крупных научных центров, связанных с искусственным интеллектом, который, в числе прочего, рассматривается как новый тип цифровой научной инфраструктуры.
Национальные центры ИИ для науки (Китай)
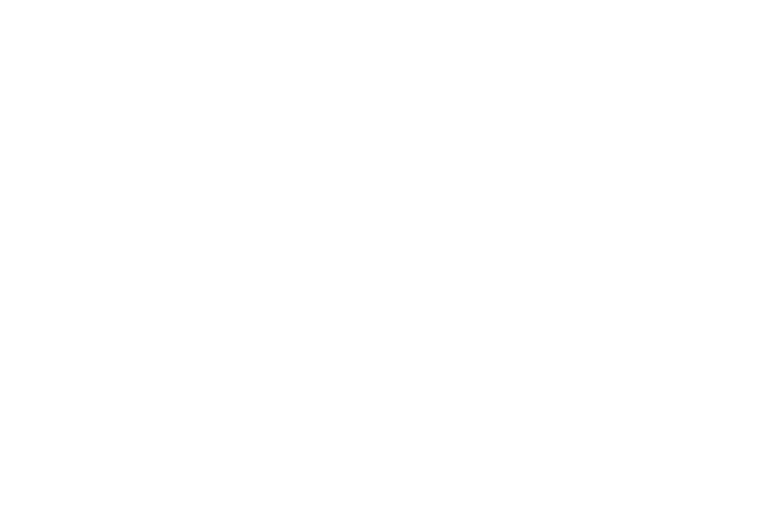
Лаборатория Пэн Чен, пров. Гуаньдун
ИИ-лаборатория, пров. Чжэцзян
- 3,2 тыс. исследователей (в том числе 600+ студентов на программах PhD); специализация — ИИ (базовые модели на основе научных и государственных данных), высокопроизводительные вычисления, робототехника и сетевые технологии;
- с 2019 года: соразработка трех базовых [проприетарных] LLM (совместно с Huawei) на 500+ млрд параметров; собственная LLM Pengcheng Cloud Mind (200+ млрд параметров); специализированные дата-сеты Nebula System и StarSquare System (астрофизика, геопространственные данные) для обучения LLM.
ИИ-лаборатория, пров. Чжэцзян
- 2,1 тыс. исследователей; годовой бюджет порядка $ 200 млн;
- С 2017 года: вычислительный кластер для ИИ (500 петафлопс); специализированная LLM для астрономии (+ обучение LLM для исследовательских центров); LLM для ядерных реакторов и космических технологий.
Для того чтобы обеспечить все эти проекты деньгами, в 2024 году в Китае были запущены два специфических инструмента: специализированная госпрограмма долгосрочных бондов на развитие инфраструктур (не только научных, но тем не менее) объемом ~$ 150 млрд и программа льготных кредитов Китайского банка развития (China Development Bank) на $ 200 млрд, в которую входит трек по развитию крупных исследовательских инфраструктур.
Планы США в части мегасайенс чуть менее амбициозны — это 15 установок (восемь сейчас на стадии проектирования, семь — строительства); американские коллеги пытаются диверсифицировать темы и направления: исследования Арктики, высокопроизводительные вычисления, атмосферные исследования и пр.
В сторону диверсификации большой науки постепенно движется Германия: в 2025 году в шорт-лист мегасайенс-планов, помимо традиционных экспериментальной физики и астрономии, вошли два цифровых мегапроекта: RIDLOP (создание единой национальной платформы для обращения с научными данными) и SLICES-DE (создание национального исследовательского центра ИИ, технологий распределенных вычислений и постквантовой кибербезопасности).
У проектов создания крупных исследовательских инфраструктур есть одна [относительно] приятная особенность: несмотря на всю их технологическую сложность, они «единичные», и любые возникающие технические и политические проблемы (например, «где заказать нужное оборудование в условиях размонтирования глобальных связей») можно так или иначе решить — параллельным ли импортом, национальными ли спецпроектами, не так важно.
Однако у национальных научно-исследовательских комплексов есть куда более системная проблема, а именно — доступность современного лабораторного оборудования для менее масштабных и куда более многочисленных проектов.
Абсолютное большинство производителей научного оборудования, работающих на глобальном уровне — и, соответственно, имеющих возможность вкладывать деньги в постоянное обновление и развитие своих продуктов (интернет вещей, data-аналитика, ML и ИИ, автоматизация и пр.), — сосредоточено в нескольких странах.
В этом смысле ситуация с научным оборудованием сильно напоминает историю с производством литографических установок в микроэлектронике: когда в мире полтора производителя нужного оборудования, можно сколько угодно говорить о суверенитете, но всем понятно, что все эти разговоры — исключительно в пользу бедных.
Планы США в части мегасайенс чуть менее амбициозны — это 15 установок (восемь сейчас на стадии проектирования, семь — строительства); американские коллеги пытаются диверсифицировать темы и направления: исследования Арктики, высокопроизводительные вычисления, атмосферные исследования и пр.
В сторону диверсификации большой науки постепенно движется Германия: в 2025 году в шорт-лист мегасайенс-планов, помимо традиционных экспериментальной физики и астрономии, вошли два цифровых мегапроекта: RIDLOP (создание единой национальной платформы для обращения с научными данными) и SLICES-DE (создание национального исследовательского центра ИИ, технологий распределенных вычислений и постквантовой кибербезопасности).
У проектов создания крупных исследовательских инфраструктур есть одна [относительно] приятная особенность: несмотря на всю их технологическую сложность, они «единичные», и любые возникающие технические и политические проблемы (например, «где заказать нужное оборудование в условиях размонтирования глобальных связей») можно так или иначе решить — параллельным ли импортом, национальными ли спецпроектами, не так важно.
Однако у национальных научно-исследовательских комплексов есть куда более системная проблема, а именно — доступность современного лабораторного оборудования для менее масштабных и куда более многочисленных проектов.
Абсолютное большинство производителей научного оборудования, работающих на глобальном уровне — и, соответственно, имеющих возможность вкладывать деньги в постоянное обновление и развитие своих продуктов (интернет вещей, data-аналитика, ML и ИИ, автоматизация и пр.), — сосредоточено в нескольких странах.
В этом смысле ситуация с научным оборудованием сильно напоминает историю с производством литографических установок в микроэлектронике: когда в мире полтора производителя нужного оборудования, можно сколько угодно говорить о суверенитете, но всем понятно, что все эти разговоры — исключительно в пользу бедных.
Суммарная рыночная капитализация компаний — производителей научного оборудования (из топ‑40, $ млрд)
Производители отдельных категорий лабораторного оборудования
- Спектрометры (масс-, молекулярные, атомные, инфракрасные и пр.): топ‑15 компаний-производителей (Thermo Fisher Scientific, PerkinElmer, Agilent Technologies, Waters Corporation и пр.) занимают порядка 80 % глобального рынка; при этом 12 из них локализованы в США, две — в Японии, две — в Великобритании и одна — в Швейцарии.
- Секвенаторы (включая микрофлюидные): топ‑5 компаний (Illumina, Ion Torrent / Thermo Fisher, BGI / MGI Tech, Oxford Nanopore Technologies и Pacific Biosciences) занимают 90 %+ рынка, причем на американскую Illumina приходится около 80 %, а все остальные проходят по категории «статистическая погрешность».
- Электронные микроскопы: топ‑10 компаний занимают 90 %+ рынка; из них около 25 % — американская Thermo Fisher, 20 % — немецкая Carl Zeiss и 15 % — японская Hitachi.
- Сканирующие зондовые микроскопы (атомно-силовые, туннельные и пр.) — единственное направление продвинутой микроскопии, в котором Россия представлена на глобальном уровне (НТ МДТ, по различным оценкам, занимает 6−7 % мирового рынка); при этом концентрация рынка заметно ниже, чем в остальных направлениях передового научного приборостроения (на топ‑10 компаний приходится около 50 % продаж).
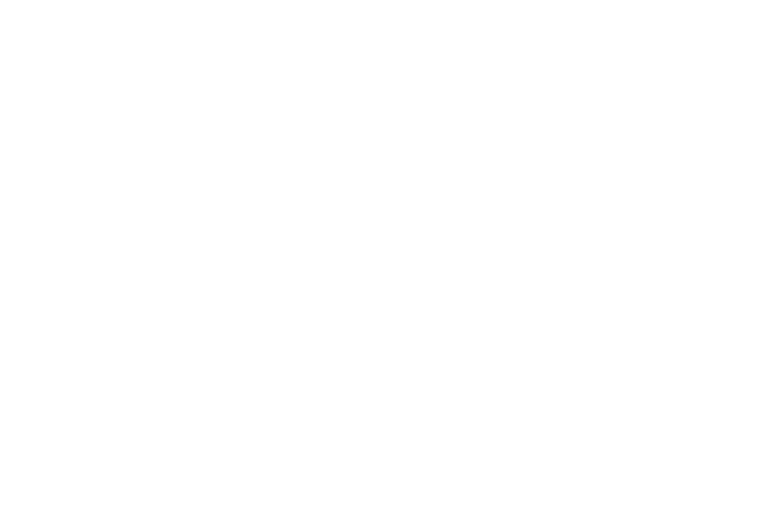
Россия
Россия, в отличие от научных коллег и конкурентов, пока решает задачи другого типа.
Во-первых, медленно, но верно идет приоритезация научного финансирования: сформированы и (частично) реализуются национальные проекты технологического лидерства; государственная программа научно-технологического развития в значительной части переориентирована на научное обеспечение нацпроектов.
Во-вторых, идет организационная перестройка российской научной политики: к концу марта 2026 года должна быть разработана комплексная модель управления научно-технологическим развитием, которая позволит выстроить единую научную политику с опорой на политику промышленную и собственно технологическую (инновационную).
Это почти в чистом виде китайский вариант: управление наукой, и в первую очередь — научным финансированием, в Китае выстроено строго «от рынка» и от технологических потребностей промышленных предприятий, хорошо понимающих собственные продуктовые и рыночные перспективы. Нет подтвержденной заинтересованности в разработке со стороны отрасли — нет госденег на R&D.
Россия, в отличие от научных коллег и конкурентов, пока решает задачи другого типа.
Во-первых, медленно, но верно идет приоритезация научного финансирования: сформированы и (частично) реализуются национальные проекты технологического лидерства; государственная программа научно-технологического развития в значительной части переориентирована на научное обеспечение нацпроектов.
Во-вторых, идет организационная перестройка российской научной политики: к концу марта 2026 года должна быть разработана комплексная модель управления научно-технологическим развитием, которая позволит выстроить единую научную политику с опорой на политику промышленную и собственно технологическую (инновационную).
Это почти в чистом виде китайский вариант: управление наукой, и в первую очередь — научным финансированием, в Китае выстроено строго «от рынка» и от технологических потребностей промышленных предприятий, хорошо понимающих собственные продуктовые и рыночные перспективы. Нет подтвержденной заинтересованности в разработке со стороны отрасли — нет госденег на R&D.
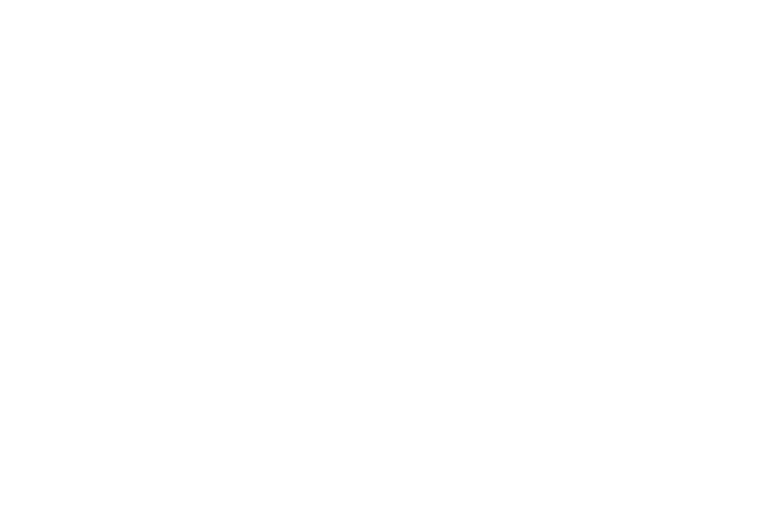
С точки зрения долгосрочных перспектив, у такого подхода есть свои минусы (в частности, китайские коллеги уже много лет бьются над тем, как увеличить финансирование фундаментальной науки и повысить качество фундаментальных результатов), но в горизонте пяти-семи лет жесткая переориентация денежных потоков на государственные и рыночные приоритеты неизбежна, причем не только в России.
В-третьих, обсуждаются возможности увеличения финансирования исследований и разработок. Россия уже занимает восьмое место в мире по объемам финансирования науки, однако относительный объем вложений в науку пока не дотягивает до целевых 2 % от ВВП (к 2030 году) — и решать эту проблему предлагается, в числе прочего, за счет привлечения частных инвестиций в R&D.
Ставка на бизнес как на двигатель научного прогресса — логичный ход: в относительных показателях российское государство тратит на науку в два-четыре раза больше, чем другие страны, даже традиционно «государственный» Китай (33,1 % против китайских 14,6 %), причем за госсчет финансируются не только российская фундаментальная наука, но и условно-прикладные исследования и разработки.
В-третьих, обсуждаются возможности увеличения финансирования исследований и разработок. Россия уже занимает восьмое место в мире по объемам финансирования науки, однако относительный объем вложений в науку пока не дотягивает до целевых 2 % от ВВП (к 2030 году) — и решать эту проблему предлагается, в числе прочего, за счет привлечения частных инвестиций в R&D.
Ставка на бизнес как на двигатель научного прогресса — логичный ход: в относительных показателях российское государство тратит на науку в два-четыре раза больше, чем другие страны, даже традиционно «государственный» Китай (33,1 % против китайских 14,6 %), причем за госсчет финансируются не только российская фундаментальная наука, но и условно-прикладные исследования и разработки.
Структура финансирования исследований и разработок (%, 2023)
К сожалению, в части науки, бизнеса и их отношений есть три вопроса, на которые [пока] нет ответа:
Но это, конечно, уже задача со звездочкой.
- зачем российскому бизнесу инвестировать в исследования и разработки в условиях, когда продавать хайтек-продукты made in Russia на глобальном рынке, мягко говоря, затруднительно (NB: именно инвестировать, а не тратить минимум денег по разнарядке, чтобы получить налоговые послабления);
- какой именно бизнес должен/может это делать;
- откуда российский бизнес возьмет деньги, позволяющие хотя бы по каким-то позициям конкурировать с китайскими и/или американскими компаниями — глобальными технологическими лидерами.
Но это, конечно, уже задача со звездочкой.
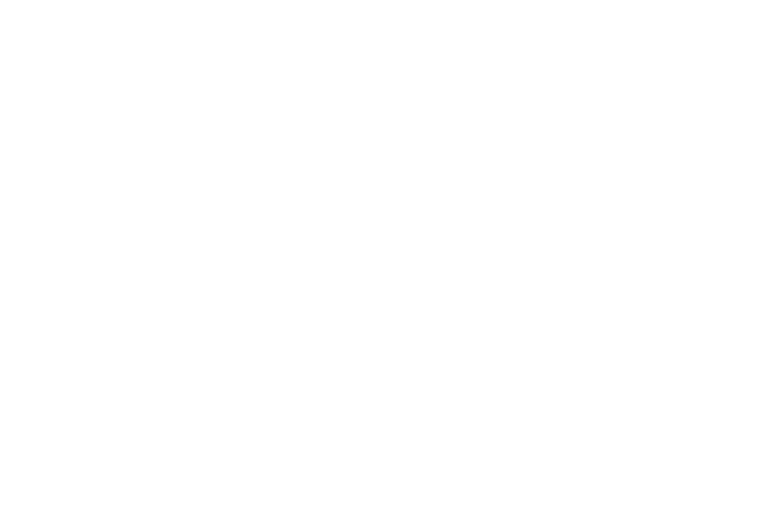
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ