«Все как раз налаживается»
ВЗГЛЯД / #3_2025
Беседовала Ирина ДОРОХОВА / Фото: ГНЦ РФ ТРИНИТИ, ITER
На фото: Токамак Т-11М
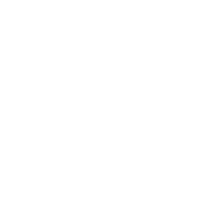
В Звенигороде 17−21 марта прошла ежегодная конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. В этом году она была посвящена памяти Евгения Велихова — одного из крупнейших российских физиков. Собравшиеся обсудили сложные физические вопросы: поведение плазмы, лазеры, токи и поля. В числе прочего речь шла о прогрессе крупнейших термоядерных проектов: международного ИТЭР и российского токамака с реакторными технологиями (ТРТ). У нашей корреспондентки, внимательно слушавшей доклады, возникло несколько вопросов, как технических, так и «экзистенциальных». Ответить на них она попросила директора Проектного центра ИТЭР Анатолия Красильникова.
— На конференции сказали: вероятно, возможности изменить базовую линию больше не будет, потому что соглашение по проекту ИТЭР действует до 2042 года, а базовая линия рассчитана до 2059 года. Это означает, что деятельность по проекту после 2042 года окажется в правовом вакууме, а до 2042 года всё не успеть. Что же делать? Всё бросить?
— Пьетро Барабаски, Камада-сан, Ален Бекуле, Делонг Луо, Александр Алексеев, пришедшие в руководство ИТЭР, — высокопрофессиональные инженеры и физики. Новая базовая линия, предложенная ими, основывается на том, что́ можно сделать с максимальной скоростью. П. Барабаски сказал, что в США или России можно было бы построить ИТЭР с бериллиевой первой стенкой, во Франции — нет. Там другие законодательство и скорость принятия решений, очень дорого во Франции с бериллием работать. Поэтому П. Барабаски предложил вольфрам. Как инженер он прав. Но мы смотрим на проблему «из плазмы», и с этой точки зрения вольфрам плох, потому что очень сильно вырастут потери энергии на излучение. Мы предложили компромисс: покроем вольфрам карбидом бора. П. Барабаски это поддержал и заключил с нами контракт на исследования, чтобы мы выяснили все особенности создания и свойства пленок В4С на вольфраме. Мы должны продемонстрировать успех до середины 2026 года. Я оптимист: думаю, что наше решение будет работать. Мы не видим проблем, которые остановили бы проект. Есть трудности, возможно замедление, но не остановка. Профессионалы принимают решения, помогающие максимально ускориться. Для этого отказались от первой плазмы. Зачем она? Чтобы показать политикам, что мы это сделали?
— Пьетро Барабаски, Камада-сан, Ален Бекуле, Делонг Луо, Александр Алексеев, пришедшие в руководство ИТЭР, — высокопрофессиональные инженеры и физики. Новая базовая линия, предложенная ими, основывается на том, что́ можно сделать с максимальной скоростью. П. Барабаски сказал, что в США или России можно было бы построить ИТЭР с бериллиевой первой стенкой, во Франции — нет. Там другие законодательство и скорость принятия решений, очень дорого во Франции с бериллием работать. Поэтому П. Барабаски предложил вольфрам. Как инженер он прав. Но мы смотрим на проблему «из плазмы», и с этой точки зрения вольфрам плох, потому что очень сильно вырастут потери энергии на излучение. Мы предложили компромисс: покроем вольфрам карбидом бора. П. Барабаски это поддержал и заключил с нами контракт на исследования, чтобы мы выяснили все особенности создания и свойства пленок В4С на вольфраме. Мы должны продемонстрировать успех до середины 2026 года. Я оптимист: думаю, что наше решение будет работать. Мы не видим проблем, которые остановили бы проект. Есть трудности, возможно замедление, но не остановка. Профессионалы принимают решения, помогающие максимально ускориться. Для этого отказались от первой плазмы. Зачем она? Чтобы показать политикам, что мы это сделали?
Базовая линия проекта ИТЭР — перечень работ, график их исполнения и стоимость. Ее несколько раз меняли из-за сложностей проекта. Сейчас обсуждается новый вариант. Он предусматривает, в частности, отказ от получения первой плазмы. В предыдущей базовой линии этот этап был запланирован на 2025 год. Также в новом варианте предполагается заменить бериллиевую первую стенку реактора на вольфрамовую. Исследованиями материалов первой стенки будут заниматься российские организации.
— Чтобы показать: машина собрана и работает.
— Это можно сделать иначе: получить вакуум, измерить магнитное поле — есть масса других параметров. Нужна длинная плазма, с максимальным током, чтобы отработать систему подавления ее срывов. Срывы могут привести к аварии, которая остановит машину лет на пять. Поэтому отработку надо делать, пока в установку не запущена охлаждающая вода — она может сильно повредить оборудование. Это разумный инженерный подход, ускоряющий достижение главной цели — проведения дейтерий-тритиевого эксперимента.
— Вы как руководитель российского офиса будете бороться за проект, если возникнут новые сложности?
— Надо не бороться, а строить. Конечно, возможны новые проблемы. Будем ли мы впадать в истерику? Нет, конечно. Мы будем работать и создавать графики решения проблем. Технологии, задействованные в ИТЭР, на грани знаний человечества, что-то создается непосредственно во время работы. Да, мы выходим за сроки реализации проекта. Значит, соберемся еще раз, парламенты ратифицируют. Это трудно, но возможно. Более того, сейчас всё как раз налаживается.
— Вернемся к первой стенке. Предлагаются разные решения для ее борирования. Расскажите, пожалуйста, о них подробно.
— Европейские физики предлагают использовать для покрытия первой стенки бором газ диборан — B2H6. Наносят бор так: выключается магнитное поле, вакуумная камера ИТЭР заполняется газом. На периферии внутри вакуумной камеры вводятся штыри, на них подается напряжение. Между штырями возникает тлеющий разряд, приводящий к тому, что B2H6 распадается, и бор осаждается на стенке вакуумной камеры, а водород попадает в плазму. За 12 дней гамма-кванты, нейтроны и атомы плазмы «слизывают» тонкий слой бора.
У России другой подход: мы предлагаем нанести покрытие В4С. Для этого в штатный разряд ИТЭР вводится карборан — молекула, содержащая бор, водород и углерод. Это пар: твердое вещество нагревается до определенной температуры и начинает испаряться, как сухой лед. Доказанное преимущество карборана — нет необходимости отключать магнитное поле, устанавливать штыри, создавать тлеющий разряд. Поэтому наша задача сейчас — не только разработать технологию нанесения на вольфрам, но и доказать, что В4С не перепыляется в виде пленок углерода и бора. Углерод — это плохо для машины. Углеродные пленки сорбируют тритий, который невозможно будет контролировать внутри. Французский ядерный регулятор этого не позволит и остановит проект.
— Это можно сделать иначе: получить вакуум, измерить магнитное поле — есть масса других параметров. Нужна длинная плазма, с максимальным током, чтобы отработать систему подавления ее срывов. Срывы могут привести к аварии, которая остановит машину лет на пять. Поэтому отработку надо делать, пока в установку не запущена охлаждающая вода — она может сильно повредить оборудование. Это разумный инженерный подход, ускоряющий достижение главной цели — проведения дейтерий-тритиевого эксперимента.
— Вы как руководитель российского офиса будете бороться за проект, если возникнут новые сложности?
— Надо не бороться, а строить. Конечно, возможны новые проблемы. Будем ли мы впадать в истерику? Нет, конечно. Мы будем работать и создавать графики решения проблем. Технологии, задействованные в ИТЭР, на грани знаний человечества, что-то создается непосредственно во время работы. Да, мы выходим за сроки реализации проекта. Значит, соберемся еще раз, парламенты ратифицируют. Это трудно, но возможно. Более того, сейчас всё как раз налаживается.
— Вернемся к первой стенке. Предлагаются разные решения для ее борирования. Расскажите, пожалуйста, о них подробно.
— Европейские физики предлагают использовать для покрытия первой стенки бором газ диборан — B2H6. Наносят бор так: выключается магнитное поле, вакуумная камера ИТЭР заполняется газом. На периферии внутри вакуумной камеры вводятся штыри, на них подается напряжение. Между штырями возникает тлеющий разряд, приводящий к тому, что B2H6 распадается, и бор осаждается на стенке вакуумной камеры, а водород попадает в плазму. За 12 дней гамма-кванты, нейтроны и атомы плазмы «слизывают» тонкий слой бора.
У России другой подход: мы предлагаем нанести покрытие В4С. Для этого в штатный разряд ИТЭР вводится карборан — молекула, содержащая бор, водород и углерод. Это пар: твердое вещество нагревается до определенной температуры и начинает испаряться, как сухой лед. Доказанное преимущество карборана — нет необходимости отключать магнитное поле, устанавливать штыри, создавать тлеющий разряд. Поэтому наша задача сейчас — не только разработать технологию нанесения на вольфрам, но и доказать, что В4С не перепыляется в виде пленок углерода и бора. Углерод — это плохо для машины. Углеродные пленки сорбируют тритий, который невозможно будет контролировать внутри. Французский ядерный регулятор этого не позволит и остановит проект.
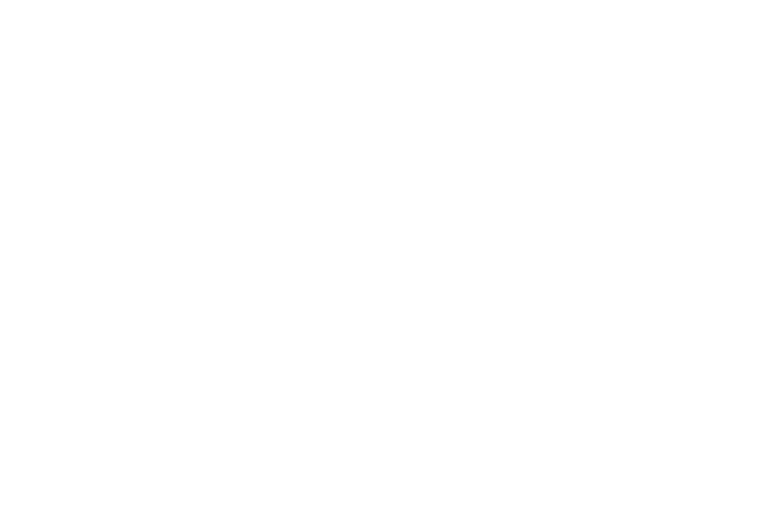
Криокомбинат ИТЭР
— На токамаке с реакторными технологиями (ТРТ), создаваемом в России, планируется внедрить принципиально иную технологию: изготовить первую стенку из жидкого лития. Как она будет работать?
— Эмиттер подает жидкий литий через обращенную к плазме пористо-волокнистую вольфрамовую структуру (ПВС). Когда литий доберется до обращенной к плазме поверхности ПВС, плазма начнет его «слизывать» и уносить. Чтобы литий не накапливался в плазме, российские ученые под руководством Сергея Миронова придумали, изготовили и испытали на токамаке Т‑11 конструкцию специального коллектора.
— В своем докладе вы упомянули о возможности исследовать новое топливо для термоядерных реакторов. А чем плох дейтерий-тритий?
— Дейтерий-тритий — это хорошее топливо. Но, во‑первых, тритий дорогой, и получать его сложно. Сейчас его умеют хорошо делать только в России и в Канаде. Где нарабатывать тритий для будущих термоядерных реакторов? Либо на этом же токамаке — мы изготавливаем для ИТЭР бридерный модуль бланкета по наработке трития, — либо договариваться с производителем из сферы атомной энергетики. Но это проблематично и дорого. Во-вторых, продукты дейтерий-тритиевой реакции — это альфа-частицы и нейтроны с энергией 14 МэВ. Нейтроны, вылетая, ионизируют все вокруг. Это проблема. Одно из ее возможных решений — использование безнейтронных термоядерных реакций. Например, реакция протонов с 11В. Если разогнать протоны до высоких энергий, скажем, 600 кэВ, то вероятность возникновения реакции между протоном и 1В увеличивается. Продукт реакции — три альфа-частицы. Следующий шаг — научиться преобразовывать термоядерную энергию в электрическую. Это проблема, потому что альфа-частицы остаются в плазме. Говорят о прямом преобразовании кинетической энергии быстрых ионов в ток, но решения этой задачи пока нет. Если нейтроны не вылетают и воду для паровой турбины не греют, то надо придумать другой вариант. Например, фотоны. Они вылетают и несут энергию, не вызывая радиационной активации конструкции.
Другие варианты топлива — D+3He, D+7Li или D+6Li, их реакции тоже безнейтронные или с низким выходом нейтронов. Правда, в плазме дейтоны будут взаимодействовать не только с 3Не и литием, но и друг с другом. Продукты их реакции — тритий и нейтрон. Но в этом канале нейтронов выделяется гораздо меньше. И, возможно, этого «гораздо меньше» будет достаточно для инженерного решения. Еще один вариант — реакции с бериллием.
— Почему же все эти варианты не используют?
— С точки зрения вероятности термоядерного синтеза, они проигрывают дейтерий-тритию раз в сто. Но, может быть, решение есть. Например, можно перейти к более высоким температурам. Тогда, возможно, проигрыш будет не в сто раз, а в пять, и появится смысл построить реактор. Поэтому изучать другие топлива надо. Кстати, высокое магнитное поле в ТРТ позволяет исследовать эффективность термоядерного горения различных топливных смесей.
— Эмиттер подает жидкий литий через обращенную к плазме пористо-волокнистую вольфрамовую структуру (ПВС). Когда литий доберется до обращенной к плазме поверхности ПВС, плазма начнет его «слизывать» и уносить. Чтобы литий не накапливался в плазме, российские ученые под руководством Сергея Миронова придумали, изготовили и испытали на токамаке Т‑11 конструкцию специального коллектора.
— В своем докладе вы упомянули о возможности исследовать новое топливо для термоядерных реакторов. А чем плох дейтерий-тритий?
— Дейтерий-тритий — это хорошее топливо. Но, во‑первых, тритий дорогой, и получать его сложно. Сейчас его умеют хорошо делать только в России и в Канаде. Где нарабатывать тритий для будущих термоядерных реакторов? Либо на этом же токамаке — мы изготавливаем для ИТЭР бридерный модуль бланкета по наработке трития, — либо договариваться с производителем из сферы атомной энергетики. Но это проблематично и дорого. Во-вторых, продукты дейтерий-тритиевой реакции — это альфа-частицы и нейтроны с энергией 14 МэВ. Нейтроны, вылетая, ионизируют все вокруг. Это проблема. Одно из ее возможных решений — использование безнейтронных термоядерных реакций. Например, реакция протонов с 11В. Если разогнать протоны до высоких энергий, скажем, 600 кэВ, то вероятность возникновения реакции между протоном и 1В увеличивается. Продукт реакции — три альфа-частицы. Следующий шаг — научиться преобразовывать термоядерную энергию в электрическую. Это проблема, потому что альфа-частицы остаются в плазме. Говорят о прямом преобразовании кинетической энергии быстрых ионов в ток, но решения этой задачи пока нет. Если нейтроны не вылетают и воду для паровой турбины не греют, то надо придумать другой вариант. Например, фотоны. Они вылетают и несут энергию, не вызывая радиационной активации конструкции.
Другие варианты топлива — D+3He, D+7Li или D+6Li, их реакции тоже безнейтронные или с низким выходом нейтронов. Правда, в плазме дейтоны будут взаимодействовать не только с 3Не и литием, но и друг с другом. Продукты их реакции — тритий и нейтрон. Но в этом канале нейтронов выделяется гораздо меньше. И, возможно, этого «гораздо меньше» будет достаточно для инженерного решения. Еще один вариант — реакции с бериллием.
— Почему же все эти варианты не используют?
— С точки зрения вероятности термоядерного синтеза, они проигрывают дейтерий-тритию раз в сто. Но, может быть, решение есть. Например, можно перейти к более высоким температурам. Тогда, возможно, проигрыш будет не в сто раз, а в пять, и появится смысл построить реактор. Поэтому изучать другие топлива надо. Кстати, высокое магнитное поле в ТРТ позволяет исследовать эффективность термоядерного горения различных топливных смесей.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

