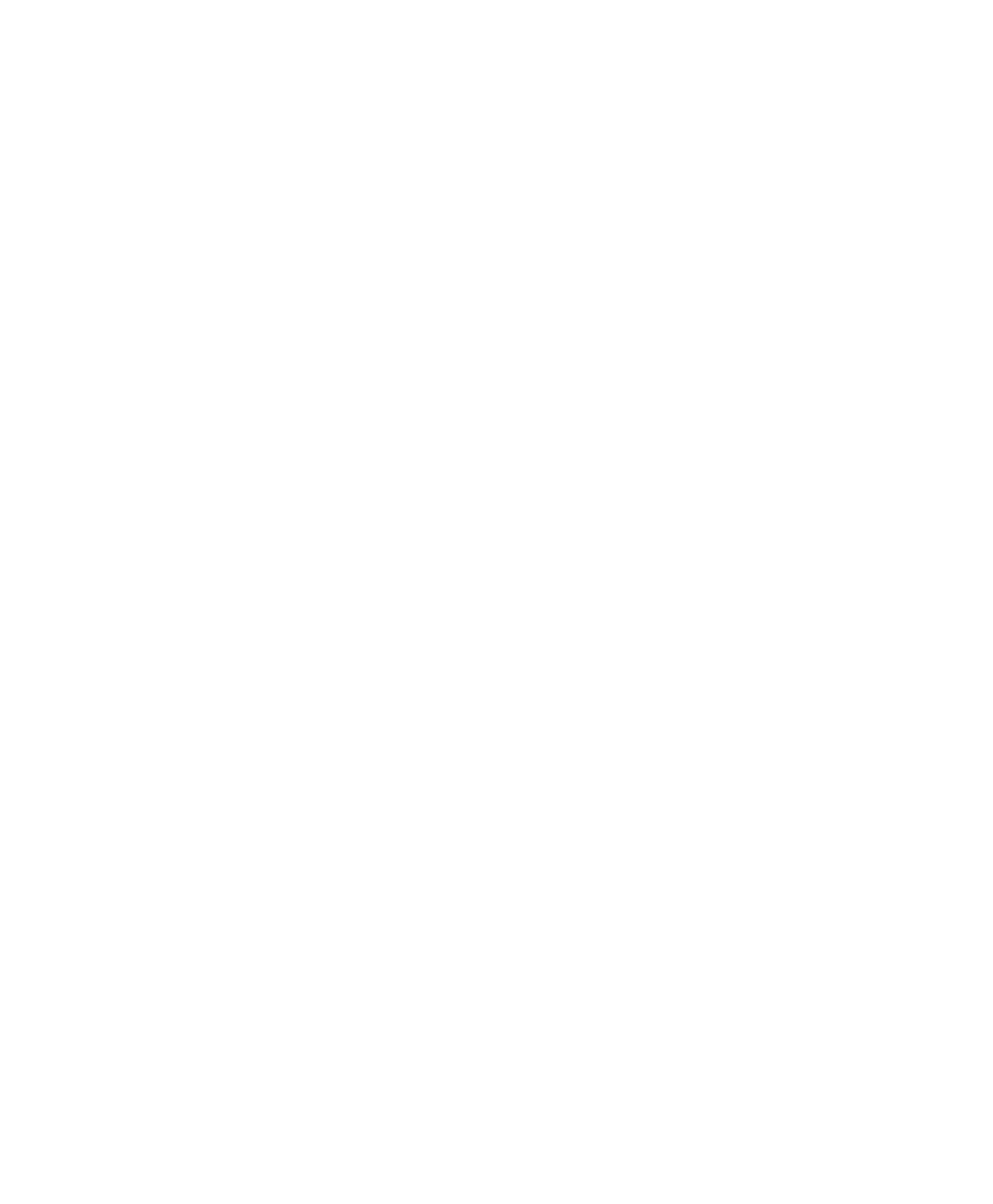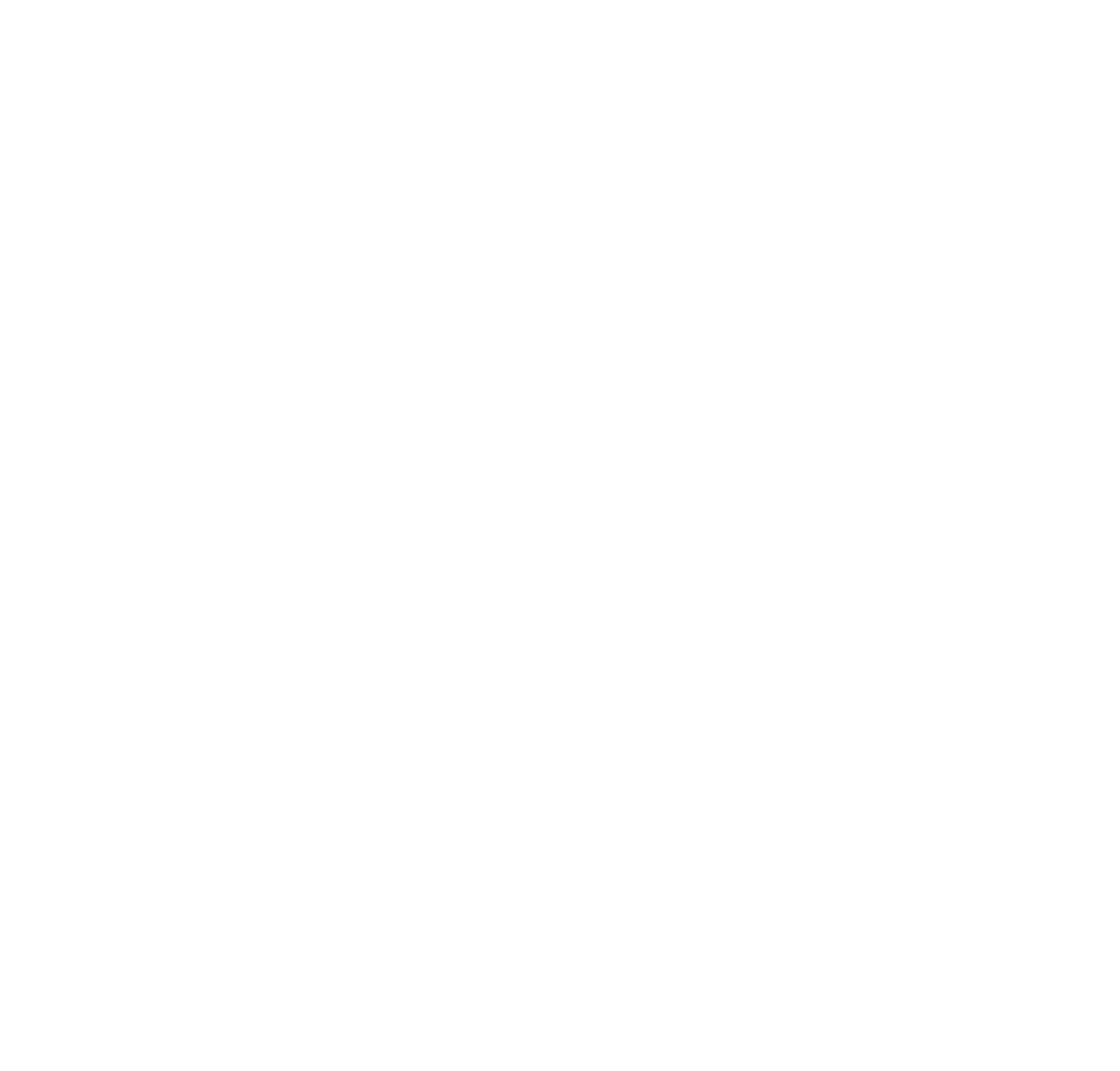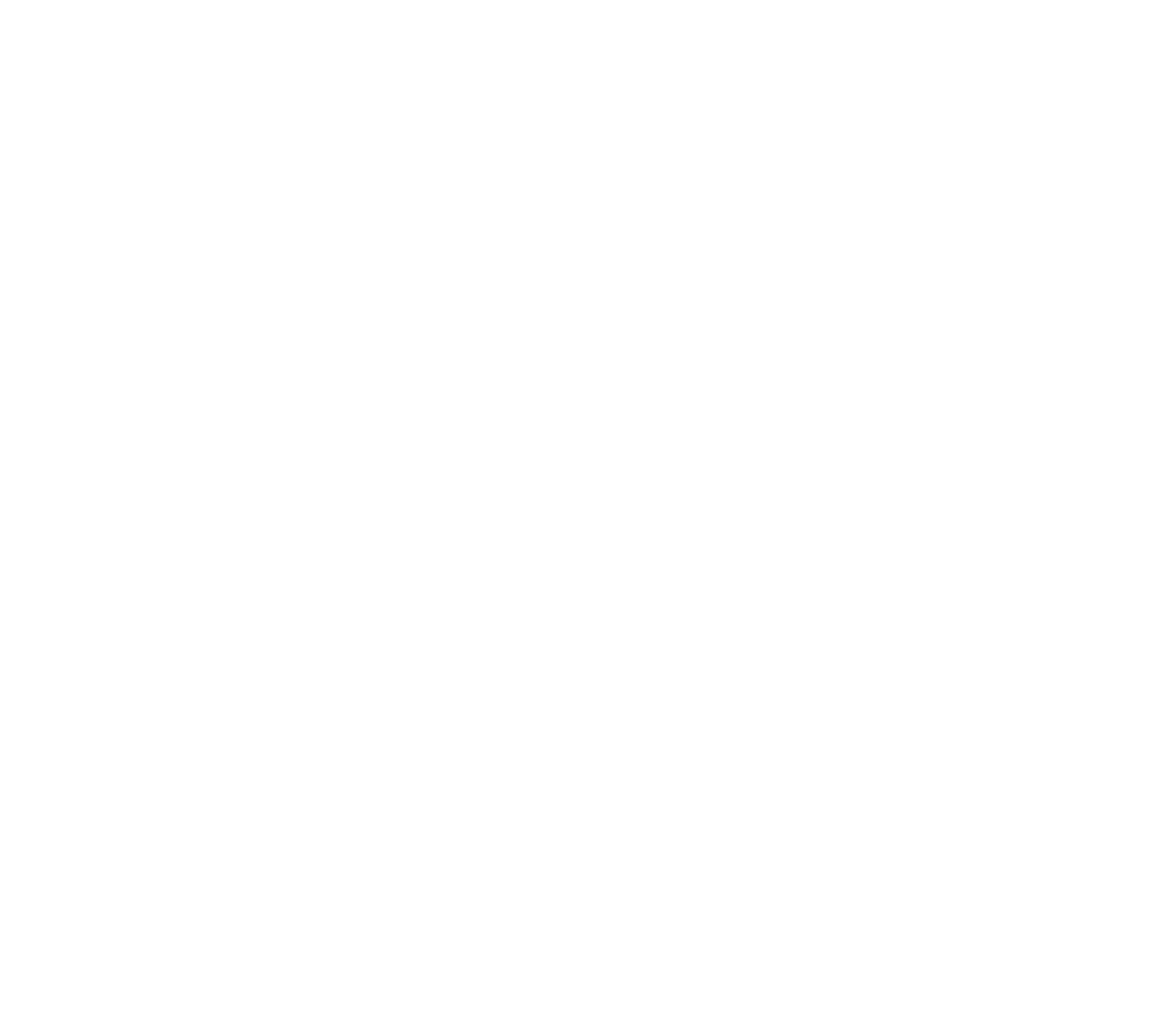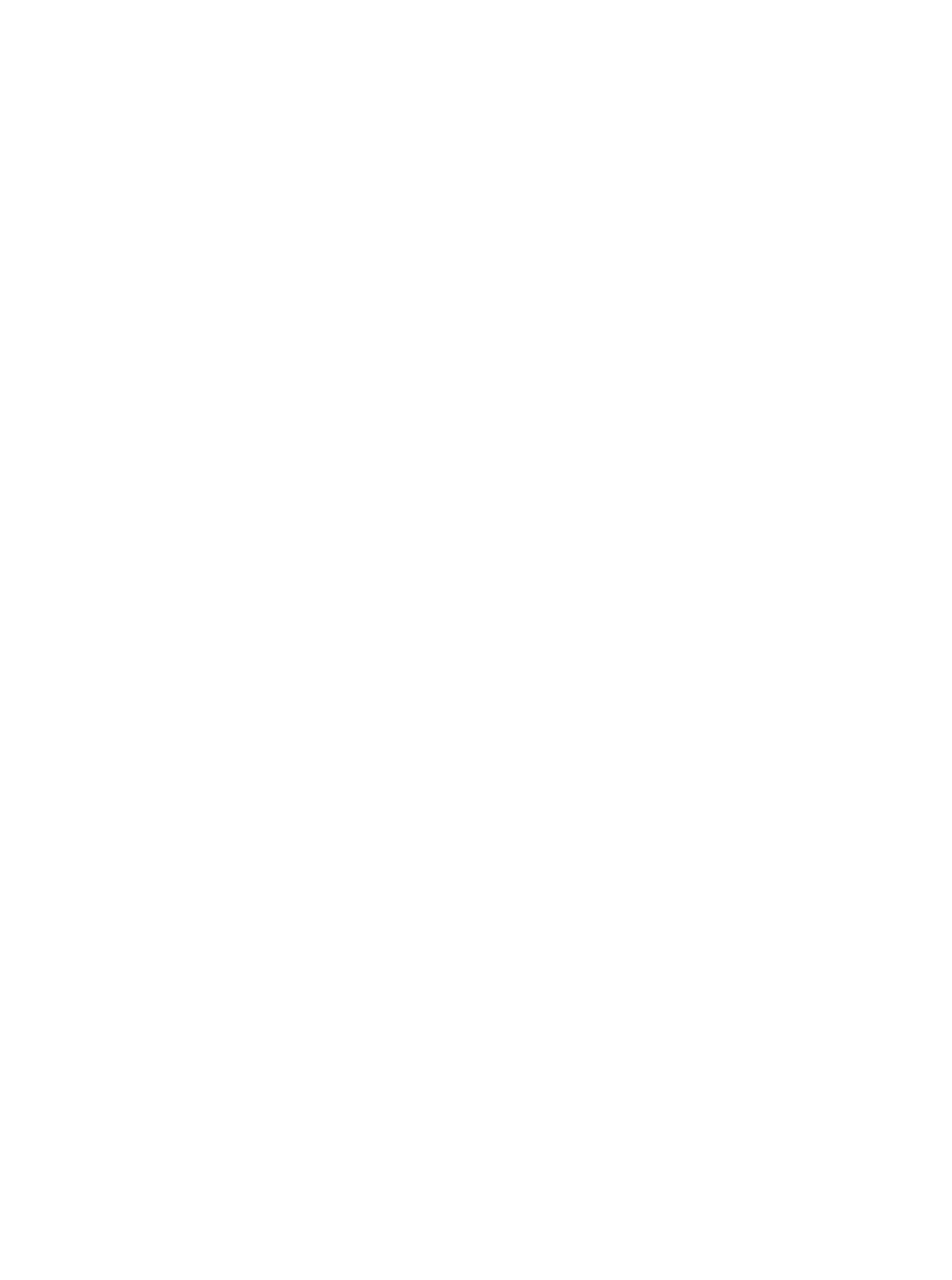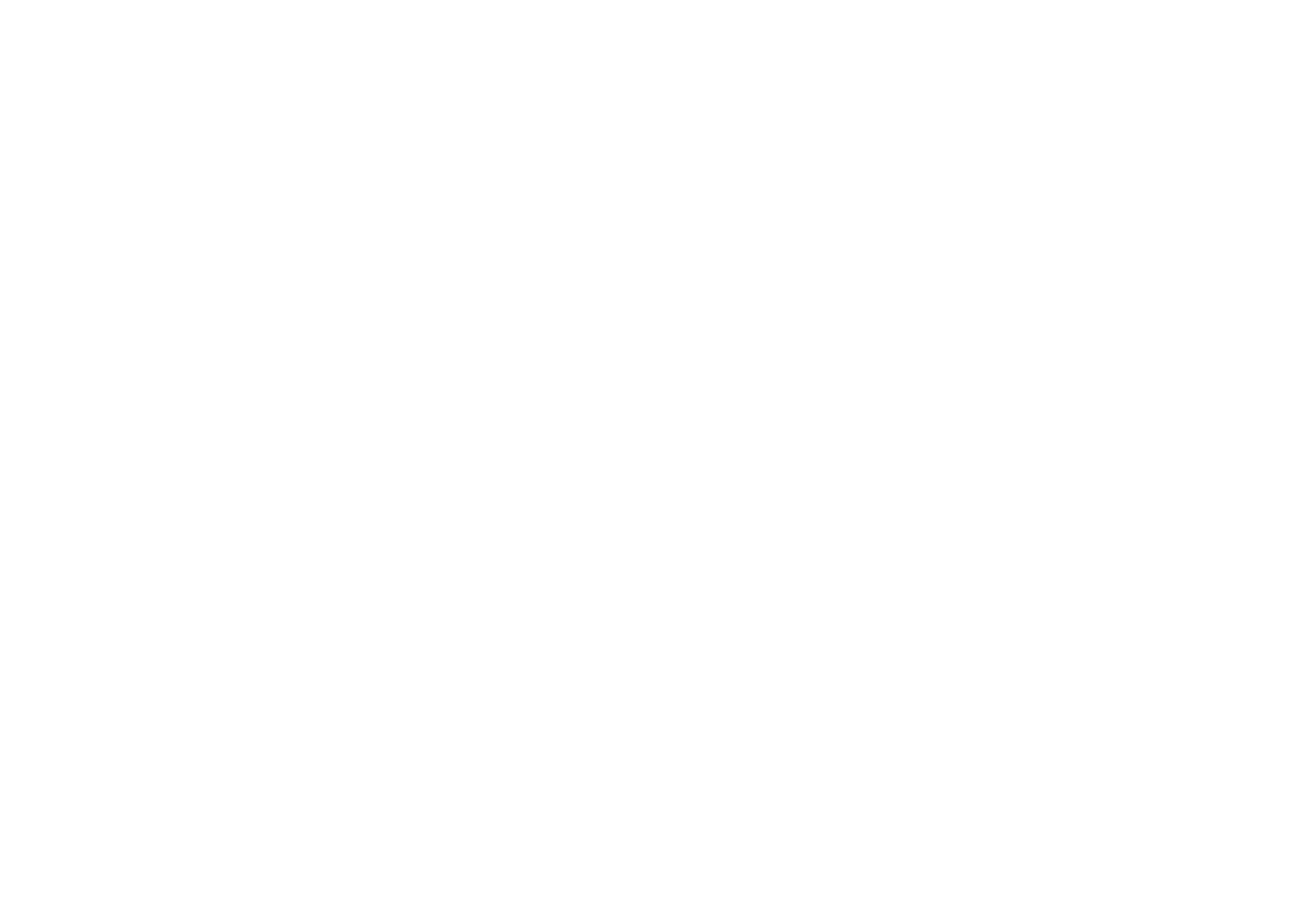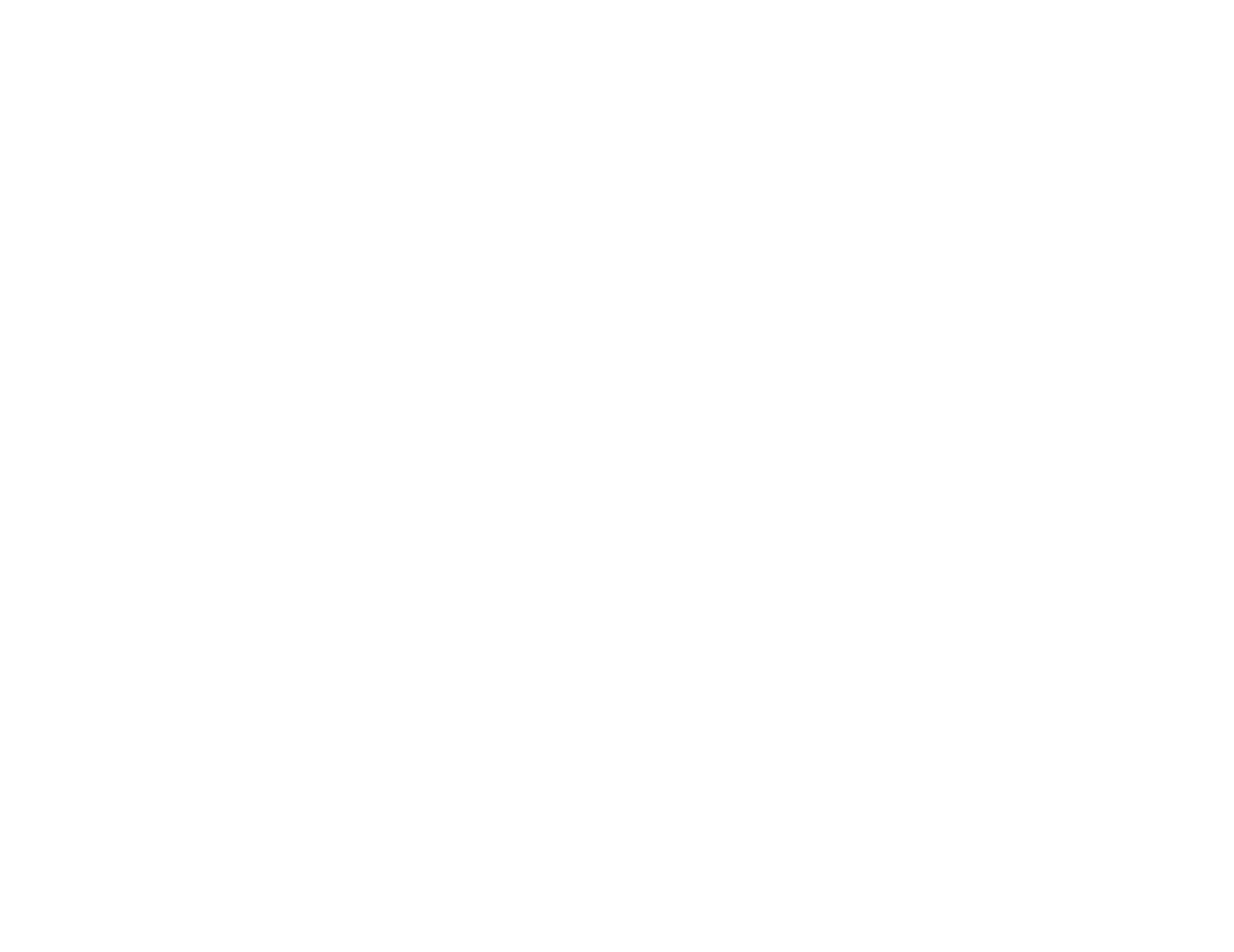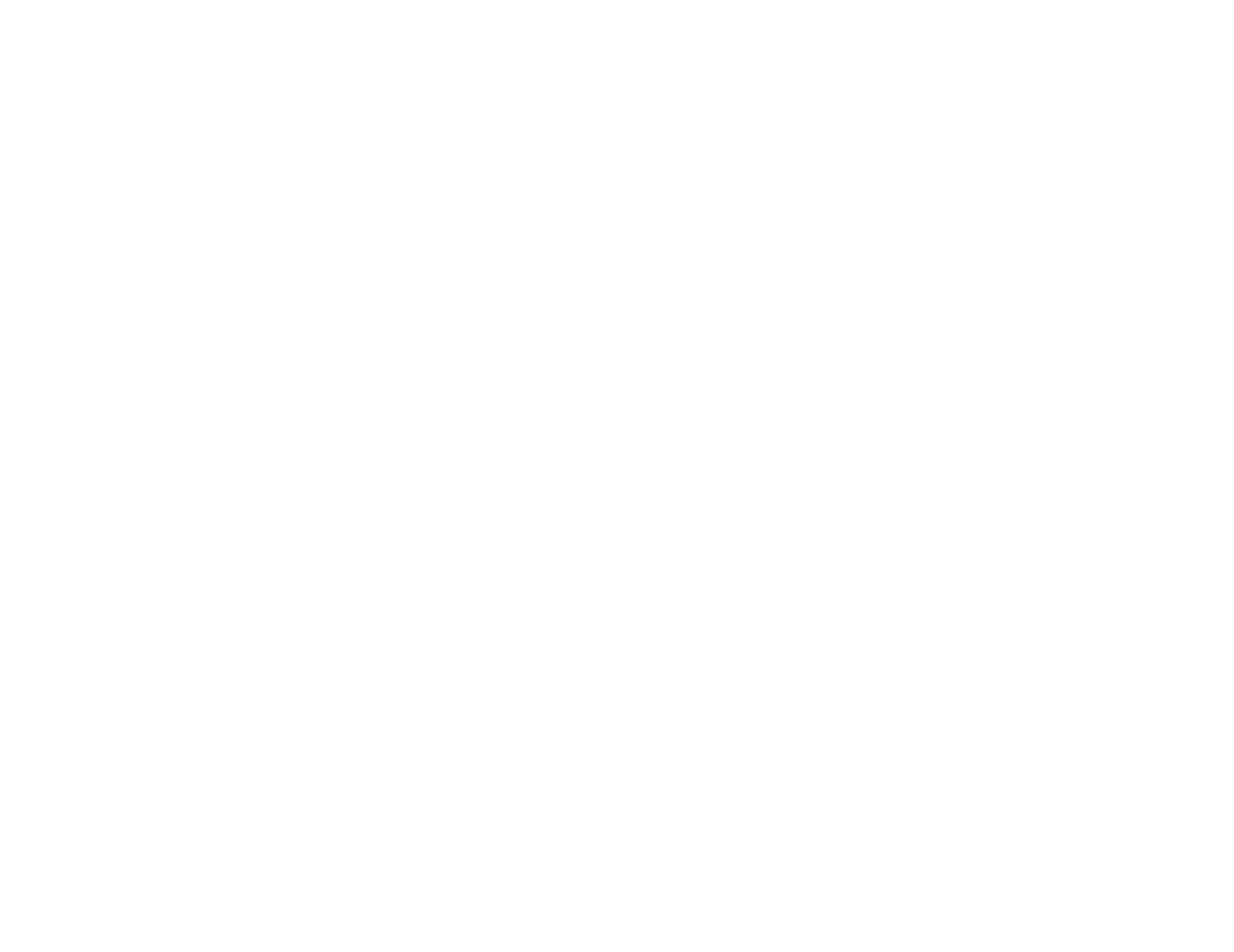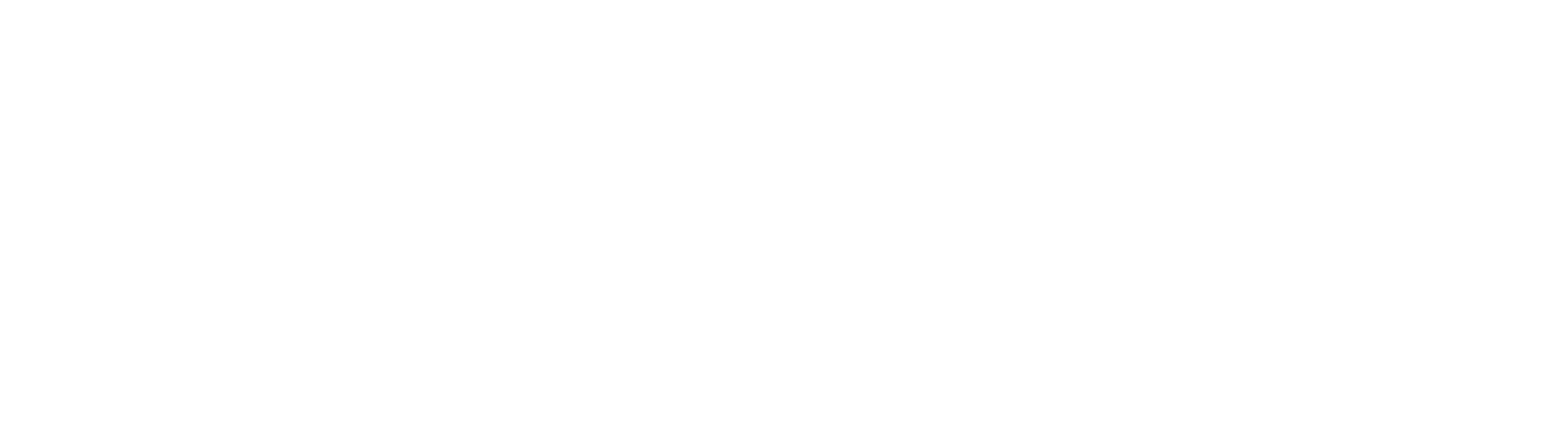Стратегический биогеоценоз
БИЗНЕС / #7_АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ_2024
Текст: Наталия АНДРЕЕВА / Иллюстрация: Валерий Балдин, создано с помощью Midjourney / Фото: Unsplash.com, Shell
Высокотехнологичным компаниям, как и всем остальным, сейчас нелегко: деглобализация, геополитические проблемы и экономическая неопределенность проблематизируют не только бизнес-модели, но и технологические стратегии. Что же происходит в этих условиях с корпоративными инновационными экосистемами глобальных компаний? И что это может значить для российских компаний и рынков? Попробуем разобраться.
Лавировали-лавировали…
Компаниям с инновационными экосистемами на борту сейчас приходится плавать в очень опасных и малознакомых водах.
Во-первых, глобальные экономические и финансовые перспективы были и остаются сомнительными: как ожидается, темпы роста глобального ВВП в 2024—2025 годах не превысят 3,3 %, причем локомотивами роста, как и в предыдущие годы, будут выступать Китай (4,1−4,5 %) и, в меньшей степени, Индия (6,5−7 %); США и страны еврозоны по-прежнему балансируют на грани стагнации. Снижение инфляции, которого более или менее добились центробанки, происходит в основном за счет стабилизации цен на товары при сохранении инфляционного давления со стороны сектора услуг, отмечает МВФ; по данным ОЭСР, глобальная инфляция в 2024 году составит порядка 5 %, в 2025 м — 3,2−4,4 %.
Компаниям с инновационными экосистемами на борту сейчас приходится плавать в очень опасных и малознакомых водах.
Во-первых, глобальные экономические и финансовые перспективы были и остаются сомнительными: как ожидается, темпы роста глобального ВВП в 2024—2025 годах не превысят 3,3 %, причем локомотивами роста, как и в предыдущие годы, будут выступать Китай (4,1−4,5 %) и, в меньшей степени, Индия (6,5−7 %); США и страны еврозоны по-прежнему балансируют на грани стагнации. Снижение инфляции, которого более или менее добились центробанки, происходит в основном за счет стабилизации цен на товары при сохранении инфляционного давления со стороны сектора услуг, отмечает МВФ; по данным ОЭСР, глобальная инфляция в 2024 году составит порядка 5 %, в 2025 м — 3,2−4,4 %.
Прогнозы темпов роста ВВП на 2025 год, %
Во-вторых, усугубляется политическая, экономическая и инвестиционная фрагментация мира — и начинает влиять, в числе прочего, на долгосрочные приоритеты в части экономического развития, а не только на многострадальные цепочки поставок и глобальную торговлю. В частности, если верить свежим опросам, центробанки развитых и развивающихся стран рассматривают геополитические проблемы и фрагментацию как краткосрочный и долгосрочный риски номер один; геополитика в этом плане потеснила как текущие конфликты, так и изменения климата, и инфляцию с монетарной политикой.
Геополитические расколы фрагментируют и научно-технологическую сферу: национальные технологические стратегии в последние два-три года ориентируются на безопасность и «опору на собственные силы»; вводятся новые ограничения на научно-технологическое сотрудничество; растет количество запрещенных к экспорту технологий и пр.
В-третьих, тяжелой остается ситуация в мировом венчуре: после бума нового финансирования в 2021—2022 годах, когда фонды привлекли больше денег ($ 300 млрд), чем за все предыдущие пять лет (2016−2020), фандрайзинг-результаты 2023 года с его $ 62 млрд, мягко говоря, разочаровывающие, и пока не похоже, что 2024‑й будет лучше: за первое полугодие венчурные фонды получили $ 32 млрд новых денег.
Проблемы с фандрайзингом прямо сказываются на инвестиционных стратегиях фондов: в 2024 году 30−35 % американских венчурных фондов не инвестировали вообще; а четверть тех, которые все-таки решились вложить деньги в стартапы, заключили всего одну сделку. Кроме того, сохраняется «тематический» перекос в инвестициях: несмотря на то что объемы инвестиций в первом полугодии 2024 года выглядят относительно приличными ($ 166 млрд против $ 162 млрд в 2023‑м), почти треть денег — $ 49 млрд — ушла в стартапы, связанные с генеративным ИИ.
На фоне дефицита денег сильно нездоровится стартапам, получившим венчурные выплаты в тучные ковидные годы: в 2023 году в США начался вал стартап-банкротств — за год закрылись 770 компаний (ср.: в 2022‑м — 467, в 2021‑м — 262). И, если верить данным Carta (платформа сервисов по акционированию для стартапов), только за первые три месяца 2024 года ушли с рынка 254 американских стартапа, в том числе несколько компаний, считавшихся звездами (Convoy, WeWork и др.); в 2024 году почти 30 % стартапов, получавших деньги от венчуристов, работают без прибыли (в 2019 году таких было 15 %).
Иными словами, внешние по отношению к компаниям инновационные экосистемы сильно лихорадит, и это заметно уменьшает возможности маневрирования: снижается разнообразие стартапов (хотя, с учетом ужесточения инвестиционных требований венчуристов, может повышаться качество выживших), падает доступность зарубежных экосистем и стартапов (особенно по линии США — Китай); кроме того, государства начинают вкладываться в неочевидные — с точки зрения бизнеса и перспектив конверсии — научно-технологические направления (например, БПЛА или искусственный интеллект для чисто военных применений).
Все это сказывается и на ожиданиях руководства компаний, и на приоритетах, и на перспективах реализации корпоративных технологических стратегий, и на состоянии условно-технологических (инновационно- и наукоемких) экосистем, которые нужны для реализации этих стратегий.
Геополитические расколы фрагментируют и научно-технологическую сферу: национальные технологические стратегии в последние два-три года ориентируются на безопасность и «опору на собственные силы»; вводятся новые ограничения на научно-технологическое сотрудничество; растет количество запрещенных к экспорту технологий и пр.
В-третьих, тяжелой остается ситуация в мировом венчуре: после бума нового финансирования в 2021—2022 годах, когда фонды привлекли больше денег ($ 300 млрд), чем за все предыдущие пять лет (2016−2020), фандрайзинг-результаты 2023 года с его $ 62 млрд, мягко говоря, разочаровывающие, и пока не похоже, что 2024‑й будет лучше: за первое полугодие венчурные фонды получили $ 32 млрд новых денег.
Проблемы с фандрайзингом прямо сказываются на инвестиционных стратегиях фондов: в 2024 году 30−35 % американских венчурных фондов не инвестировали вообще; а четверть тех, которые все-таки решились вложить деньги в стартапы, заключили всего одну сделку. Кроме того, сохраняется «тематический» перекос в инвестициях: несмотря на то что объемы инвестиций в первом полугодии 2024 года выглядят относительно приличными ($ 166 млрд против $ 162 млрд в 2023‑м), почти треть денег — $ 49 млрд — ушла в стартапы, связанные с генеративным ИИ.
На фоне дефицита денег сильно нездоровится стартапам, получившим венчурные выплаты в тучные ковидные годы: в 2023 году в США начался вал стартап-банкротств — за год закрылись 770 компаний (ср.: в 2022‑м — 467, в 2021‑м — 262). И, если верить данным Carta (платформа сервисов по акционированию для стартапов), только за первые три месяца 2024 года ушли с рынка 254 американских стартапа, в том числе несколько компаний, считавшихся звездами (Convoy, WeWork и др.); в 2024 году почти 30 % стартапов, получавших деньги от венчуристов, работают без прибыли (в 2019 году таких было 15 %).
Иными словами, внешние по отношению к компаниям инновационные экосистемы сильно лихорадит, и это заметно уменьшает возможности маневрирования: снижается разнообразие стартапов (хотя, с учетом ужесточения инвестиционных требований венчуристов, может повышаться качество выживших), падает доступность зарубежных экосистем и стартапов (особенно по линии США — Китай); кроме того, государства начинают вкладываться в неочевидные — с точки зрения бизнеса и перспектив конверсии — научно-технологические направления (например, БПЛА или искусственный интеллект для чисто военных применений).
Все это сказывается и на ожиданиях руководства компаний, и на приоритетах, и на перспективах реализации корпоративных технологических стратегий, и на состоянии условно-технологических (инновационно- и наукоемких) экосистем, которые нужны для реализации этих стратегий.
Большое «зачем»
Ожидания компаний/CEO от мировой экономики и ближайшего будущего пока противоречивы и далеки от радужных: в зависимости от страны, отрасли, размера компании и пр. оценки колеблются от «все будет чудовищно» до «все будет ослепительно хорошо». Настроения, конечно, лучше, чем год-два назад, когда глобальной рецессии ждали две трети руководителей (в 2023 году, например, ожидания были даже пессимистичнее, чем в разгар ковида: к экономическим ужасам готовились 73 % CEO, а в 2020‑м — всего 53 %), но без малого половина CEO по-прежнему считает, что надо готовиться к худшему.
Сильно портит ситуацию (и повышает тревожность руководителей) то, что большинство рисков сейчас, во‑первых, слабо прогнозируемо и, во‑вторых, их крайне сложно предотвратить/демпфировать, поскольку работа с ними находится за пределами возможностей чуть менее чем всех компаний.
Фрагментация глобального мира, санкции, проблемы с международной торговлей, искрящие геополитические вопросы — все это большая политика, на которую [предположительно] влияют несколько корпораций из первой сотни рейтинга Fortune. Все остальные вынуждены адаптироваться к внезапным сюрпризам по мере их поступления: 86 % руководителей планируют что-то делать по поводу геополитической нестабильности, незаконного субсидирования производства конкурентов (читай — со стороны китайского правительства), протекционизма и меняющейся промышленной политики.
(Спектр возможных действий, конечно, не так велик, как хотелось бы: 60 % руководителей планируют в ближайшие годы снизить присутствие компаний в «регионах высокого риска», 38 % — углубить локализацию/регионализацию и опираться на локальные команды и цепочки поставок, 16 % — вернуть как производства, так и всю операционную деятельность, так сказать, на родину.)
Ожидания компаний/CEO от мировой экономики и ближайшего будущего пока противоречивы и далеки от радужных: в зависимости от страны, отрасли, размера компании и пр. оценки колеблются от «все будет чудовищно» до «все будет ослепительно хорошо». Настроения, конечно, лучше, чем год-два назад, когда глобальной рецессии ждали две трети руководителей (в 2023 году, например, ожидания были даже пессимистичнее, чем в разгар ковида: к экономическим ужасам готовились 73 % CEO, а в 2020‑м — всего 53 %), но без малого половина CEO по-прежнему считает, что надо готовиться к худшему.
Сильно портит ситуацию (и повышает тревожность руководителей) то, что большинство рисков сейчас, во‑первых, слабо прогнозируемо и, во‑вторых, их крайне сложно предотвратить/демпфировать, поскольку работа с ними находится за пределами возможностей чуть менее чем всех компаний.
Фрагментация глобального мира, санкции, проблемы с международной торговлей, искрящие геополитические вопросы — все это большая политика, на которую [предположительно] влияют несколько корпораций из первой сотни рейтинга Fortune. Все остальные вынуждены адаптироваться к внезапным сюрпризам по мере их поступления: 86 % руководителей планируют что-то делать по поводу геополитической нестабильности, незаконного субсидирования производства конкурентов (читай — со стороны китайского правительства), протекционизма и меняющейся промышленной политики.
(Спектр возможных действий, конечно, не так велик, как хотелось бы: 60 % руководителей планируют в ближайшие годы снизить присутствие компаний в «регионах высокого риска», 38 % — углубить локализацию/регионализацию и опираться на локальные команды и цепочки поставок, 16 % — вернуть как производства, так и всю операционную деятельность, так сказать, на родину.)
Основные риски для компаний
(мнение CEO, % ответивших)
(мнение CEO, % ответивших)
В условиях, когда риски непрогнозируемы, неуправляемы и по отношению к компаниям являются чисто «внешними», руководители компаний естественным образом тяготеют к работе с теми зонами и темами, с которыми могут работать, — к технологиям, способным, в теории, повысить продуктивность / снизить расходы; к продуктам и продуктовым пайплайнам, ориентированным на меняющиеся предпочтения потребителей; к мониторингу регуляторного контекста и пр.
(Технологии и технологическое развитие — вообще универсальная «серебряная пуля», которую используют каждый раз, когда непонятно, во что вкладывать деньги и где нужно подстелить соломку.)
(Технологии и технологическое развитие — вообще универсальная «серебряная пуля», которую используют каждый раз, когда непонятно, во что вкладывать деньги и где нужно подстелить соломку.)
Основные драйверы корпоративных изменений (мнение CEO, %)
Это прямо отражается на инвестиционных приоритетах компаний. В частности, в 2024 году почти половина компаний (47 %) планируют работать с новыми технологиями, в первую очередь с искусственным интеллектом, который, как ожидается, даст прибавку в эффективности/продуктивности (и, соответственно, прибыли), и с обеспечением кибербезопасности on premise.
При этом политика в области технологий определяется финансовыми задачами: снижением затрат и наращиванием прибыли; после того как опасения по поводу экономических перспектив поутихли, ключевым вопросом стало обеспечение роста. В частности, по данным опросов Gartner, на рост/экспансию в 2024 году нацелено рекордное за последние 10 лет число компаний — 62 % в среднем по экономике; и, что характерно, на втором месте по приоритетности — реализация технологической политики, которой планирует заниматься треть компаний.
При этом политика в области технологий определяется финансовыми задачами: снижением затрат и наращиванием прибыли; после того как опасения по поводу экономических перспектив поутихли, ключевым вопросом стало обеспечение роста. В частности, по данным опросов Gartner, на рост/экспансию в 2024 году нацелено рекордное за последние 10 лет число компаний — 62 % в среднем по экономике; и, что характерно, на втором месте по приоритетности — реализация технологической политики, которой планирует заниматься треть компаний.
Инвестиционные приоритеты компаний (мнение CEO, %)
Понятное «что»
На первый взгляд, с точки зрения технологических приоритетов, в компаниях ан-масс не происходит ничего неожиданного — все бегут (или вяло бредут) за хайпом и вкладываются в ИИ всех родов и видов, в решения для работы с данными (облачные технологии, ML и пр.) и в прочие горячие/перегретые темы.
Но, как это всегда бывает с хайпом, есть несколько нюансов.
Первый (самый очевидный) — корпоративное целеполагание, определяющее техническое задание на разработку/покупку и внедрение технологий. У компаний, ставящих на технологии больше, чем окружающие/конкуренты, свои погремушки: приоритеты естественным образом кренятся в продуктовую сторону (повышение качества продуктов/сервисов и радикальное сокращение времени вывода новых продуктов на рынок) и к оптимизации принятия решений, в том числе о тех же продуктах.
При этом цели и задачи технологической политики очень сильно разнятся — от создания новых продуктов до улучшения имиджа компаний в глазах стейкхолдеров.
На первый взгляд, с точки зрения технологических приоритетов, в компаниях ан-масс не происходит ничего неожиданного — все бегут (или вяло бредут) за хайпом и вкладываются в ИИ всех родов и видов, в решения для работы с данными (облачные технологии, ML и пр.) и в прочие горячие/перегретые темы.
Но, как это всегда бывает с хайпом, есть несколько нюансов.
Первый (самый очевидный) — корпоративное целеполагание, определяющее техническое задание на разработку/покупку и внедрение технологий. У компаний, ставящих на технологии больше, чем окружающие/конкуренты, свои погремушки: приоритеты естественным образом кренятся в продуктовую сторону (повышение качества продуктов/сервисов и радикальное сокращение времени вывода новых продуктов на рынок) и к оптимизации принятия решений, в том числе о тех же продуктах.
При этом цели и задачи технологической политики очень сильно разнятся — от создания новых продуктов до улучшения имиджа компаний в глазах стейкхолдеров.
Цели внедрения новых технологий (мнение CEO, %)
Второй (менее очевидный, но более важный) нюанс — масштабный продуктовый переход, продолжающийся уже лет восемь-десять. Началось все, как обычно, с компаний — мировых лидеров (продуктовая логика сменила платформенную в Boeing, BASF, Henkel, Huawei, Alibaba, чуть менее чем во всем автопроме и пр.); а к 2024 году необходимость перестройки бизнес-процессов «под продукты», а также инвестиций в R&D и инжиниринг как основу продуктового счастья стала общим местом. Соответственно, и условная технологическая политика, и инновационная экосистема как инструмент ее реализации трансформируются «под продукты».
Ожидания CEO по поводу бюджетов на R&D и инжиниринг в ближайшие годы (% ответивших по отдельным индустриям)
Третий нюанс заключается в том, что «амбициозность» и вообще наличие технологической политики — производные не только от высоких целей руководства и продуктовых задач, но и от рынка/индустрии. В среднем технологическую политику/стратегию реализует каждая пятая компания; в страховании/финансах — каждая третья, в автопроме — каждая десятая, а, скажем, в электроэнергетике — вообще только каждая двадцатая. И в этом плане, конечно, решения с сияющих вершин технологического хайпа привлекательны только для компаний на самых высококонкурентных рынках, где рост эффективности на сотую долю процента — это победа и рост прибыли.
И четвертый нюанс, чисто технологический: сверхпопулярный нынче ИИ, как и любая перегретая тема, — это любимая жена на очень ограниченное время. Помимо И И, в компаниях, реализующих технологическую политику, работают с широким спектром технологий, в том числе с теми, в которые начали инвестировать до ситуационного хайпа (облачные технологии, возобновляемая/альтернативная энергетика, новая мобильность и пр.). В частности, 37 % CEO из компаний, внедряющих генеративный ИИ, делают это в довесок ко всему остальному, за счет [экстренного] увеличения бюджета; сами по себе «технологические» бюджеты растут в девяти компаниях из десяти — и не все за счет ИИ.
Это, в частности, хорошо видно по околотехнологическим корпоративным инвестициям 2023 года: помимо хайпового ИИ ($ 122 млрд) компании инвестировали в альтернативную энергетику ($ 183 млрд), новые технологии мобильности ($ 83 млрд), «зеленые» технологии ($ 68 млрд) и массу других направлений. А среди инвестиционных приоритетов 2024 года, помимо все того же ИИ, компании называли промышленный Интернет вещей (46 %), робототехнику (33 %), иммерсивные технологии (35 %) и пр.
И четвертый нюанс, чисто технологический: сверхпопулярный нынче ИИ, как и любая перегретая тема, — это любимая жена на очень ограниченное время. Помимо И И, в компаниях, реализующих технологическую политику, работают с широким спектром технологий, в том числе с теми, в которые начали инвестировать до ситуационного хайпа (облачные технологии, возобновляемая/альтернативная энергетика, новая мобильность и пр.). В частности, 37 % CEO из компаний, внедряющих генеративный ИИ, делают это в довесок ко всему остальному, за счет [экстренного] увеличения бюджета; сами по себе «технологические» бюджеты растут в девяти компаниях из десяти — и не все за счет ИИ.
Это, в частности, хорошо видно по околотехнологическим корпоративным инвестициям 2023 года: помимо хайпового ИИ ($ 122 млрд) компании инвестировали в альтернативную энергетику ($ 183 млрд), новые технологии мобильности ($ 83 млрд), «зеленые» технологии ($ 68 млрд) и массу других направлений. А среди инвестиционных приоритетов 2024 года, помимо все того же ИИ, компании называли промышленный Интернет вещей (46 %), робототехнику (33 %), иммерсивные технологии (35 %) и пр.
Проблемное «как»
Но самое интересное, конечно же, происходит не с технологиями как таковыми, а с тем, как компании (и их инновационные экосистемы) работают с этими технологиями в новых условиях.
С учетом скорости, с которой в последние 30 лет появляются новые [как бы] прорывные технологии, необходимость а) наличия технологической стратегии и б) поиска инноваций и технологий везде, где только можно, —общее место. Собственные R&D, корпоративные венчурные фонды, акселераторы внутренние и внешние, скаутинг технологий и интеллектуальной собственности, краудсорсинг — вариантов много.
Выбор между «внутренними» и «внешними» источниками инноваций (идей, ИС, продуктов и пр.) — дело, конечно, сугубо индивидуальное, зависящее от массы факторов, начиная с индустрии/рынка и заканчивая сложностью и уникальностью ключевых продуктов компании. Опять же, по мнению CEO, оба подхода вносят вклад в рост прибылей наравне с оптимизационными мероприятиями, трансформацией бизнес-моделей и пр.
Но самое интересное, конечно же, происходит не с технологиями как таковыми, а с тем, как компании (и их инновационные экосистемы) работают с этими технологиями в новых условиях.
С учетом скорости, с которой в последние 30 лет появляются новые [как бы] прорывные технологии, необходимость а) наличия технологической стратегии и б) поиска инноваций и технологий везде, где только можно, —общее место. Собственные R&D, корпоративные венчурные фонды, акселераторы внутренние и внешние, скаутинг технологий и интеллектуальной собственности, краудсорсинг — вариантов много.
Выбор между «внутренними» и «внешними» источниками инноваций (идей, ИС, продуктов и пр.) — дело, конечно, сугубо индивидуальное, зависящее от массы факторов, начиная с индустрии/рынка и заканчивая сложностью и уникальностью ключевых продуктов компании. Опять же, по мнению CEO, оба подхода вносят вклад в рост прибылей наравне с оптимизационными мероприятиями, трансформацией бизнес-моделей и пр.
Эффективные действия для увеличения прибыли (мнение CEO, %, на который увеличилась чистая прибыль после реализации)
Однако успешные корпорации, как правило, предпочитают содержать весь «зоопарк форматов», даже в тех случаях, когда руководство отчетливо тяготеет к одному подходу. И комплексный подход себя оправдывает, например, в Google и Amazon: Google стабильно и последовательно делает ставку на поглощения внешних компаний и расширяет продуктовую линейку преимущественно за этот счет, но не отказывается и от внутренних разработок; Amazon, наоборот, работает с собственными разработками, опять же, не отказываясь от покупки того, что может оказаться полезным.
Понятно, что и Google, и Amazon — глобальные лидеры, до которых — с точки зрения обеспеченности ресурсами — чуть более чем всем компаниям очень далеко, но это не отменяет того факта, что совмещение внутренних и внешних инноваций дает пространство для маневра. Типичный пример — результаты работы инновационных систем в нефтегазовой отрасли: французская Total, пытавшаяся обойтись малой инновационной кровью и перелицевавшая корпоративный венчурный фонд в акселератор, в 2023 году была вынуждена продать все стартапы; а британская Shell, последовательно выстраивавшая полноценную систему производства и поглощения инноваций, результатами довольна и пока ничего закрывать не собирается.
Понятно, что и Google, и Amazon — глобальные лидеры, до которых — с точки зрения обеспеченности ресурсами — чуть более чем всем компаниям очень далеко, но это не отменяет того факта, что совмещение внутренних и внешних инноваций дает пространство для маневра. Типичный пример — результаты работы инновационных систем в нефтегазовой отрасли: французская Total, пытавшаяся обойтись малой инновационной кровью и перелицевавшая корпоративный венчурный фонд в акселератор, в 2023 году была вынуждена продать все стартапы; а британская Shell, последовательно выстраивавшая полноценную систему производства и поглощения инноваций, результатами довольна и пока ничего закрывать не собирается.
Экосистема работы с инновациями в Shell

Shell — одна из крупнейших в мире транснациональных нефтегазовых компаний с рыночной капитализацией порядка $ 227 млрд (на август 2024 года); производитель широкого спектра нефтехимической и газохимической продукции с масштабными задачами по разработке/оптимизации продуктов, в том числе в последние годы — продуктов, связанных с низкоуглеродными технологиями. Ежегодные затраты Shell на исследования и разработки составляют $ 1−1,3 млрд.
Экосистема работы с инновациями в Shell включает два основных контура.
Внутренний:
Внешний:
Экосистема работы с инновациями в Shell включает два основных контура.
Внутренний:
- внутренние R&D / разработка продуктов: три крупных исследовательских центра (Амстердам, Хьюстон, Бангалор), 4,5 тыс. штатных исследователей; 10+ вспомогательных технологических центров;
- адресная разработка технических/технологических решений и продуктов для подразделений и дочерних компаний Shell, в том числе по модели стартап-студии (TechWorks).
Внешний:
- работа со стартапами: (до)посевные инвестиции (Shell GameChanger); специализированная программа для TRL1−5 стартапов в области «зеленых» климатических технологий (Shell StartUp Engine); венчур в классическом формате «деньги за долю» (Shell Ventures) + 14 внешних венчурных фондов, в которые инвестировал фонд Shell Ventures;
- краудсорсинг (Studio X);
- работа с «внешней» интеллектуальной собственностью (патенты, ноу-хау и пр.).
При совмещении внутреннего ужа с внешним ежом и начинается самое интересное.
Проблемы, с которыми сталкиваются подходы «вырастить в своем коллективе» и «купить на рынке», казалось бы, давно известны: внутрикорпоративные R&D и разработка продуктов утыкаются в бункерный перекос (исследователи — отдельно, инженеры — отдельно, финансисты — отдельно); много сложностей с привлечением внешней экспертизы и поиском новых решений, не связанных с имеющейся технологической колеей; для многих задач/продуктов внутренние R&D — излишняя роскошь.
Проблемы работы с внешними стартапами тоже наперечет: чаще всего компании говорят о слабой приспособленности маленьких, но гордых команд к работе в условиях жестких корпоративных ограничений, из-за которых все заканчивается выгоранием, срывом сроков, невыполнением КПЭ и разводом. Стартапы, в свою очередь, любят рассказывать о практиках вроде скупки потенциальных конкурентов — в логике «наложить руки на IP, разогнать команду, спать спокойно», которой известны многие технологические корпорации, в первую очередь — из сферы IT.
Но есть еще одна то ли проблема, то ли задача, о которой редко говорят и которую наши западные партнеры иногда называют управленческо-технологической «амбидекстрией»: способность организации найти оптимальный баланс между «внутренними» и «внешними» инновациями.
И тут дело не ограничивается несовместимостью культур и недобросовестными практиками работы со стартапами: инновационная амбидекстрия в технологических стратегиях — "и внешние стартапы, и внутренние R&D" — это целый клубок организационных (чтобы не сказать «политических») проблем.
Во-первых, далеко не всегда очевидны принципы, согласно которым должны приниматься «технологические» инвестиционные решения, особенно в нынешних условиях неопределенности и жестких ограничений по ресурсам. Проще говоря, каждый раз непонятно, кто победит в борьбе за деньги: глава R&D-департамента или руководитель корпоративного венчурного фонда/акселератора/инкубатора (спойлер: победит, конечно же, директор по финансам, но когда и кому это мешало надеяться?).
Собственно, опросы CEO показывают, что принцип «коллаборация или смерть» в технологической политике актуален как нигде: 65 % руководителей крупных компаний считают основным залогом технологических успехов нормальное взаимодействие между финансовыми и технологическими подразделениями (и профильными топами тоже). Но логика осажденной крепости пока побеждает: 48 % CEO жалуются на конкуренцию между директорами как на ключевой фактор, мешающий инновациям всех родов и видов.
Во-вторых, проблема конкуренции между корпоративными бункерами усугубляется отсутствием единых/сквозных метрик оценки результативности: корпоративный венчур — это одно, внутренний product development — другое, а покупка патентов — вообще десятое. А если нет единых метрик, то нет и четких правил в традиционной бюрократической «игре на обвинение» применительно к инновациям и технологиям: кого обвинят, когда окажется, что деньги потрачены, а ничего не взлетело? Или, что случается гораздо реже, кто получит бонус за успехи и головокружение от них?
И, наконец, в‑третьих, есть совсем уж сложная история со встраиванием [будущей] технологии в продуктовые и корпоративно-рыночные реалии: точно ли технология украсит продукт; точно ли именно этот продукт нужен рынку/потребителям; где гарантии, что технология успеет к открытию рынка, если она, скажем, пока на не самом высоком уровне готовности?
Когда ко всему этому добавляются проблемы с оценкой технологических рисков (опять же, сквозной, от идеи до продукта), шизофреногенное регуляторное поле, меняющиеся государственные приоритеты и глобальная финансово-экономическая тревожность, принятие даже отдельных околотехнологических решений становится нетривиальной задачей. Не говоря уже о реализации технологической стратегии.
Проблемы, с которыми сталкиваются подходы «вырастить в своем коллективе» и «купить на рынке», казалось бы, давно известны: внутрикорпоративные R&D и разработка продуктов утыкаются в бункерный перекос (исследователи — отдельно, инженеры — отдельно, финансисты — отдельно); много сложностей с привлечением внешней экспертизы и поиском новых решений, не связанных с имеющейся технологической колеей; для многих задач/продуктов внутренние R&D — излишняя роскошь.
Проблемы работы с внешними стартапами тоже наперечет: чаще всего компании говорят о слабой приспособленности маленьких, но гордых команд к работе в условиях жестких корпоративных ограничений, из-за которых все заканчивается выгоранием, срывом сроков, невыполнением КПЭ и разводом. Стартапы, в свою очередь, любят рассказывать о практиках вроде скупки потенциальных конкурентов — в логике «наложить руки на IP, разогнать команду, спать спокойно», которой известны многие технологические корпорации, в первую очередь — из сферы IT.
Но есть еще одна то ли проблема, то ли задача, о которой редко говорят и которую наши западные партнеры иногда называют управленческо-технологической «амбидекстрией»: способность организации найти оптимальный баланс между «внутренними» и «внешними» инновациями.
И тут дело не ограничивается несовместимостью культур и недобросовестными практиками работы со стартапами: инновационная амбидекстрия в технологических стратегиях — "и внешние стартапы, и внутренние R&D" — это целый клубок организационных (чтобы не сказать «политических») проблем.
Во-первых, далеко не всегда очевидны принципы, согласно которым должны приниматься «технологические» инвестиционные решения, особенно в нынешних условиях неопределенности и жестких ограничений по ресурсам. Проще говоря, каждый раз непонятно, кто победит в борьбе за деньги: глава R&D-департамента или руководитель корпоративного венчурного фонда/акселератора/инкубатора (спойлер: победит, конечно же, директор по финансам, но когда и кому это мешало надеяться?).
Собственно, опросы CEO показывают, что принцип «коллаборация или смерть» в технологической политике актуален как нигде: 65 % руководителей крупных компаний считают основным залогом технологических успехов нормальное взаимодействие между финансовыми и технологическими подразделениями (и профильными топами тоже). Но логика осажденной крепости пока побеждает: 48 % CEO жалуются на конкуренцию между директорами как на ключевой фактор, мешающий инновациям всех родов и видов.
Во-вторых, проблема конкуренции между корпоративными бункерами усугубляется отсутствием единых/сквозных метрик оценки результативности: корпоративный венчур — это одно, внутренний product development — другое, а покупка патентов — вообще десятое. А если нет единых метрик, то нет и четких правил в традиционной бюрократической «игре на обвинение» применительно к инновациям и технологиям: кого обвинят, когда окажется, что деньги потрачены, а ничего не взлетело? Или, что случается гораздо реже, кто получит бонус за успехи и головокружение от них?
И, наконец, в‑третьих, есть совсем уж сложная история со встраиванием [будущей] технологии в продуктовые и корпоративно-рыночные реалии: точно ли технология украсит продукт; точно ли именно этот продукт нужен рынку/потребителям; где гарантии, что технология успеет к открытию рынка, если она, скажем, пока на не самом высоком уровне готовности?
Когда ко всему этому добавляются проблемы с оценкой технологических рисков (опять же, сквозной, от идеи до продукта), шизофреногенное регуляторное поле, меняющиеся государственные приоритеты и глобальная финансово-экономическая тревожность, принятие даже отдельных околотехнологических решений становится нетривиальной задачей. Не говоря уже о реализации технологической стратегии.

Системное «куда»
Давление всей этой груды факторов привело к тому, что в последние годы корпоративные инновационные экосистемы заметно эволюционировали, пытаясь худо-бедно соответствовать структуре момента. И, конечно, ожиданию № 1 от технологической политики и технологий — заметному улучшению продуктов/сервисов, как существующих, так и новых.
Именно поэтому многие изменения в корпоративных экосистемах лежат в русле продуктового перехода — перенастройки бизнес-процессов с тем, чтобы радикально оптимизировать процесс продуктовых разработок, начиная с генерации идей и заканчивая управлением жизненным циклом продуктов.
Все это имеет несколько последствий.
Первое — изменение процесса принятия решений о приобретении/разработке технологии (в любом виде: IP, стартап, продукт, внутренняя разработка и пр.): решение — в рамках имеющихся бюджетов — принимают разработчики продуктов / продакт-девелоперы, а не СЕО, не профильные директора и не инженеры. И разработчики же оценивают, насколько технология готова для интеграции в конечный продукт — в тех случаях, когда речь идет о сверхсложных и сверхтехнологичных продуктах, класса ракетного двигателя, например.
Под этим внешне простым подходом, как в LLM, лежит много слоев организационных особенностей и/или практик продуктовых разработок:
1. Системная интеграция продукта (и технологий внутри этого продукта), или, формально выражаясь, инженерная интеграция систем и тестирование (systems engineering integration and test, SEI&T) как базовый процесс продуктовых разработок:
2. Система управления «продуктовыми» данными как технологическая база для продуктовых разработок:
Второе последствие адаптации инновационных экосистем к «продуктовому переходу» — это своеобразное «разделение труда» в части того, в каких околопродуктовых сферах компании обязательно должны иметь компетенции и технологии ин-хаус, а что можно заимствовать извне и/или отдавать на условный аутсорсинг (стартапам нравится, пусть летают).
Как правило, все, что связано с разработкой новых продуктов (R&D, инжиниринг, дизайн, системная интеграция, технологическое/IP-ядро и пр.), компании делают ин-хаус. Причин этому много, но основные — это: а) вопрос конкуренции, коммерческой тайны и уникальных проприетарных данных, используемых в продуктовых разработках (в том числе данные о потребителях), б) низкое качество того, что предлагает условный рынок (вендоры, стартапы, партнеры из академии и пр.), причем низкое настолько, что компаниям проще и эффективнее разработать технологию/продукт самостоятельно, чем допиливать чужие решения.
Основной мотив использования внешних технологий в разных организационных вариациях — дороговизна внутренней разработки. Самый показательный пример в этом плане — это все, что связано с цифровыми компонентами и аспектами продуктов: как показывают опросы, две трети компаний в условно-развитых странах в ближайшие годы планируют отдавать на аутсорсинг технологические модули в части кибербезопасности, промышленного Интернета вещей (сенсоры, датчики, системы обработки данных и пр.), использования облачных инфраструктур, а также ИИ.
Третье последствие продуктового перехода для корпоративных инновационных экосистем — изменение форматов работы компаний со стартапами:
1. Заметный дрейф от классических корпоративных венчурных фондов к строительству стартапов с нуля (venture building, в том числе в формате стартап-студий).
(Справедливости ради: стартапостроительством компании начали заниматься не столько из-за продуктового перехода, сколько из-за ухудшения экономической/финансовой ситуации и понятного желания повысить качество стартапов и отдачу от инвестиций.
Кроме того, корпоративные венчурные фонды, при прочих равных, проигрывают в привлекательности обычному венчуру: приличные стартапы имеют возможность выбирать, у кого брать деньги. И корпорации как инвесторы зачастую интересны стартапам не столько как источники финансирования, сколько как способ получить доступ к рынку, потребителям и/или бренду).
2. Дрейф корпоративных венчурных инвестиций в сторону (до)посевной стадии, по двум мало связанным между собой причинам. Первая — чем дальше, тем у корпоративных фондов хуже с ресурсами (бюджеты не резиновые) и с требованиями к стартапам, а посевные инвестиции во многих смыслах безопаснее более поздних раундов — денежные и репутационные потери, в случае чего, будут не такими большими.
Давление всей этой груды факторов привело к тому, что в последние годы корпоративные инновационные экосистемы заметно эволюционировали, пытаясь худо-бедно соответствовать структуре момента. И, конечно, ожиданию № 1 от технологической политики и технологий — заметному улучшению продуктов/сервисов, как существующих, так и новых.
Именно поэтому многие изменения в корпоративных экосистемах лежат в русле продуктового перехода — перенастройки бизнес-процессов с тем, чтобы радикально оптимизировать процесс продуктовых разработок, начиная с генерации идей и заканчивая управлением жизненным циклом продуктов.
Все это имеет несколько последствий.
Первое — изменение процесса принятия решений о приобретении/разработке технологии (в любом виде: IP, стартап, продукт, внутренняя разработка и пр.): решение — в рамках имеющихся бюджетов — принимают разработчики продуктов / продакт-девелоперы, а не СЕО, не профильные директора и не инженеры. И разработчики же оценивают, насколько технология готова для интеграции в конечный продукт — в тех случаях, когда речь идет о сверхсложных и сверхтехнологичных продуктах, класса ракетного двигателя, например.
Под этим внешне простым подходом, как в LLM, лежит много слоев организационных особенностей и/или практик продуктовых разработок:
1. Системная интеграция продукта (и технологий внутри этого продукта), или, формально выражаясь, инженерная интеграция систем и тестирование (systems engineering integration and test, SEI&T) как базовый процесс продуктовых разработок:
- на уровне команд: в крупных высокотехнологичных компаниях в продуктовые команды включены специальные «инженеры-интеграторы» или работают отдельные команды, отвечающие за системную адекватность всего, что инженеры, дизайнеры, исследователи и венчуристы пытаются протащить в продукт. Вплоть до того, что на SEI&T приходится до трети всего «продуктового бюджета» (как, например, в Boeing и Lockheed Martin);
- на уровне программного обеспечения: включение требований к SEI&T и контролю уровня готовности технологий в CAD/CAE, буквально на уровне мануалов/теймплейтов для инженеров. Последствий у CAD/CAE-интеграции много (нормальное кросс-функциональное взаимодействие разработчиков, возможность виртуального тестирования, интеграция онтологий и таксономий), но основное — это возможность оценивать адекватность технологии для получения нужных ТТХ продукта на выходе.
2. Система управления «продуктовыми» данными как технологическая база для продуктовых разработок:
- массивы неструктурированных данных об использовании продуктов и их поведении/характеристиках (CRM; обращения пользователей в техподдержку; данные дилеров; данные встроенных датчиков/IoT; данные белой разведки о продуктах конкурентов; парсинг социальных сетей в части отзывов и пр.) + автоматизированные системы анализа (в том числе в рамках подхода Agile Manufacturing Value and Control Management, как это делается, например, в Haier);
- производственные данные (промышленный Интернет вещей, автоматизированное производство + CAD/CAE, ERP, BIM и пр.), в том числе для анализа/моделирования потенциально необходимых производственных процессов, расчетов себестоимости и пр.;
- система управления требованиями к продуктам, получающая «входные» данные от пользователей и производства; как правило, трехступенчатая: дизайн/интерфейс (market pull); технические решения/возможности (tech push); фулфиллмент (экономика, управление потребителями и пр.).
Второе последствие адаптации инновационных экосистем к «продуктовому переходу» — это своеобразное «разделение труда» в части того, в каких околопродуктовых сферах компании обязательно должны иметь компетенции и технологии ин-хаус, а что можно заимствовать извне и/или отдавать на условный аутсорсинг (стартапам нравится, пусть летают).
Как правило, все, что связано с разработкой новых продуктов (R&D, инжиниринг, дизайн, системная интеграция, технологическое/IP-ядро и пр.), компании делают ин-хаус. Причин этому много, но основные — это: а) вопрос конкуренции, коммерческой тайны и уникальных проприетарных данных, используемых в продуктовых разработках (в том числе данные о потребителях), б) низкое качество того, что предлагает условный рынок (вендоры, стартапы, партнеры из академии и пр.), причем низкое настолько, что компаниям проще и эффективнее разработать технологию/продукт самостоятельно, чем допиливать чужие решения.
Основной мотив использования внешних технологий в разных организационных вариациях — дороговизна внутренней разработки. Самый показательный пример в этом плане — это все, что связано с цифровыми компонентами и аспектами продуктов: как показывают опросы, две трети компаний в условно-развитых странах в ближайшие годы планируют отдавать на аутсорсинг технологические модули в части кибербезопасности, промышленного Интернета вещей (сенсоры, датчики, системы обработки данных и пр.), использования облачных инфраструктур, а также ИИ.
Третье последствие продуктового перехода для корпоративных инновационных экосистем — изменение форматов работы компаний со стартапами:
1. Заметный дрейф от классических корпоративных венчурных фондов к строительству стартапов с нуля (venture building, в том числе в формате стартап-студий).
(Справедливости ради: стартапостроительством компании начали заниматься не столько из-за продуктового перехода, сколько из-за ухудшения экономической/финансовой ситуации и понятного желания повысить качество стартапов и отдачу от инвестиций.
Кроме того, корпоративные венчурные фонды, при прочих равных, проигрывают в привлекательности обычному венчуру: приличные стартапы имеют возможность выбирать, у кого брать деньги. И корпорации как инвесторы зачастую интересны стартапам не столько как источники финансирования, сколько как способ получить доступ к рынку, потребителям и/или бренду).
2. Дрейф корпоративных венчурных инвестиций в сторону (до)посевной стадии, по двум мало связанным между собой причинам. Первая — чем дальше, тем у корпоративных фондов хуже с ресурсами (бюджеты не резиновые) и с требованиями к стартапам, а посевные инвестиции во многих смыслах безопаснее более поздних раундов — денежные и репутационные потери, в случае чего, будут не такими большими.
Объем вложений корпоративных венчурных фондов в компании, $ млрд
Вторая — стартапы на посевной стадии, как правило, более гибки в плане продуктовых разработок: они еще не дошли до MVP, и у корпорации есть возможность повлиять на то, в какую именно сторону будет дорабатываться технология — и в плане потенциального встраивания в имеющиеся продукты, и в плане создания stand alone продуктов, которые органично вписывались бы в имеющийся портфель — ну, или давали бы корпорации доступ к новым рынкам.
И наконец, заметный сдвиг произошел в кадровой ситуации: две трети компаний, вкладывающихся в продуктовые разработки, сталкиваются с жесткой нехваткой квалифицированных работников, в первую очередь в областях ИИ, работы с данными (аналитика/инжиниринг), промышленного Интернета вещей и пр. В частности, в США высокотехнологичная промышленность не может найти инженеров и разработчиков на 33 % новых позиций (дефицит одних только инженеров — порядка 110 тыс. человек в год; к 2030 году, как ожидается, эта цифра вырастет минимум до 150 тыс. человек в год, сообщает консалтинговая компания BCG).
В результате в последние годы компании вынуждены постоянно искать новые способы привлечения нужных (и все более избалованных) специалистов:
И наконец, заметный сдвиг произошел в кадровой ситуации: две трети компаний, вкладывающихся в продуктовые разработки, сталкиваются с жесткой нехваткой квалифицированных работников, в первую очередь в областях ИИ, работы с данными (аналитика/инжиниринг), промышленного Интернета вещей и пр. В частности, в США высокотехнологичная промышленность не может найти инженеров и разработчиков на 33 % новых позиций (дефицит одних только инженеров — порядка 110 тыс. человек в год; к 2030 году, как ожидается, эта цифра вырастет минимум до 150 тыс. человек в год, сообщает консалтинговая компания BCG).
В результате в последние годы компании вынуждены постоянно искать новые способы привлечения нужных (и все более избалованных) специалистов:
- наращивать бюджеты на обучение и развитие образовательных платформ, внутренних и внешних: Audi, например, планирует потратить на переобучение своих сотрудников € 500 млн (до конца 2025 года); Amazon развернул собственную платформу с бесплатными курсами для сотрудников, в том числе по цифровым навыкам; Volkswagen думает о финансировании школ программирования в Бразилии и Мексике, для того чтобы решить свои кадровые проблемы, и пр. (Некоторые, как Henkel, пытались решить проблему дефицита за счет найма новых людей, но дефицит на глобальном рынке труда такой, что сейчас 73 % компаний предпочитают решать проблемы с «продуктовыми» сотрудниками рескиллингом и/или горизонтальной мобильностью.);
- активно использовать схемы временного найма (фриланс и так называемые гиг-сотрудники), особенно когда дело касается чисто цифровых проектов/разработок; именно так действуют, в частности, Google, Salesforve и другие цифровые гиганты — и эти практики начинают перенимать компании из промышленного и финансового секторов, не способные конкурировать с IT-компаниями по уровню заработных плат для штатных «продуктовых» работников, но находящие деньги для «аренды» нужных компетенций;
- думать, как и чем привлекать хороших инженеров и разработчиков (особенно это актуально для компаний за пределами IT, и без того теряющих людей: утечка мозгов в цифровые компании — очень распространенная проблема; если верить опросам, 40 % молодых инженеров готовы сменить не только работу, но и отрасль, если им предложат хорошие условия). Siemens продвигает свои «технологические хабы» как прекрасные рабочие места; многие вкладываются в экосистемы рекрутинга (хакатоны, профильные сообщества и пр.).
Критические кадровые дефициты в R&D и инжиниринге (% компаний)
Российское «как жить»
Общий контекст, в котором приходится выживать российским компаниям с их инновациями, как ни странно, изоморфен общемировой ситуации.
Экономические перспективы в России пока не очень ясны; в частности, относительно оптимистичные прогнозы Минэкономразвития (в рамках консервативного сценария они отличаются от прогнозов МВФ и компании на пару десятых процента) разделяют далеко не все федеральные ведомства. Например, Центробанк рассматривает четыре разных макроэкономических сценария, включая «рисковый», связанный с возможностью глобального финансово-экономического кризиса в 2025—2026 годах (с падением ВВП на 3−4 %).
В этих условиях российские компании, в том числе высокотехнологичные, вынуждены лавировать между разнонаправленными экономическими и политическими трендами: повсеместным перегревом экономики, которому пока не мешает даже жесткая антиинфляционная денежно-кредитная политика; ориентацией на внутреннее потребление; ожидаемым снижением цен на нефть (по версии ЦБ РФ — до $ 70 за баррель к 2027 году); геополитической неопределенностью и пр. Что не добавляет оптимизма ни компаниям, ни их инновационным экосистемам.
Общий контекст, в котором приходится выживать российским компаниям с их инновациями, как ни странно, изоморфен общемировой ситуации.
Экономические перспективы в России пока не очень ясны; в частности, относительно оптимистичные прогнозы Минэкономразвития (в рамках консервативного сценария они отличаются от прогнозов МВФ и компании на пару десятых процента) разделяют далеко не все федеральные ведомства. Например, Центробанк рассматривает четыре разных макроэкономических сценария, включая «рисковый», связанный с возможностью глобального финансово-экономического кризиса в 2025—2026 годах (с падением ВВП на 3−4 %).
В этих условиях российские компании, в том числе высокотехнологичные, вынуждены лавировать между разнонаправленными экономическими и политическими трендами: повсеместным перегревом экономики, которому пока не мешает даже жесткая антиинфляционная денежно-кредитная политика; ориентацией на внутреннее потребление; ожидаемым снижением цен на нефть (по версии ЦБ РФ — до $ 70 за баррель к 2027 году); геополитической неопределенностью и пр. Что не добавляет оптимизма ни компаниям, ни их инновационным экосистемам.
Прогнозируемые темпы роста ВВП России, % в год
Российский венчурный рынок уже не «на паузе», он, скорее, в коме: за первое полугодие 2024 года в стартапы было вложено $ 35,2 млн, причем без малого 40 % этих денег — финансирование раундов C+ (то есть единичные сделки, создающие видимость жизни, но мало что говорящие о реальном состоянии венчурных инвестиций в стране: их доля в общем числе венчурных сделок — около 3 %).
Конечно, нужно делать поправку на рост числа сделок, сумма которых не раскрывается (в 2024 году — 21 % всех сделок, что, с точки зрения прозрачности рынка, немного лучше, чем в 2023‑м с его 31 %, и заметно хуже, скажем, 2020‑го, когда информацию не раскрывали всего по 5 % сделок); однако общее состояние рынка можно диагностировать и по тем данным, которые есть.
Конечно, нужно делать поправку на рост числа сделок, сумма которых не раскрывается (в 2024 году — 21 % всех сделок, что, с точки зрения прозрачности рынка, немного лучше, чем в 2023‑м с его 31 %, и заметно хуже, скажем, 2020‑го, когда информацию не раскрывали всего по 5 % сделок); однако общее состояние рынка можно диагностировать и по тем данным, которые есть.
Объем венчурных сделок в России, $ млн
Количество венчурных сделок в России
К вялотекущему кризису российские компании подошли примерно с тем же арсеналом форматов поддержки инноваций/технологий, что и зарубежные коллеги:
Что происходит во внутренних инновационных/технологических контурах российских корпораций? Об этом официальная российская статистика умалчивает; понятно только, что в последние годы идет заметное перераспределение инновационных бюджетов в пользу закупки оборудования и ПО и в ущерб всему остальному, включая исследования и разработки.
- внутренние программы исследований и разработок (включая ПИР госкорпораций), на которые приходится порядка 40 % всех затрат компаний на инновационную деятельность;
- корпоративные акселераторы: а) ориентированные на сотрудников (программа «Вектор» в Ростехе), б) предполагающие участие внешних команд (акселераторы Сбербанка — Sber500, SberStudent; акселерационные проекты «Иннохаба» ГК «Росатом» и пр.);
- корпоративные венчурные фонды, инвестирующие в стартапы на разных стадиях (порядка 20 активных на 2024 год, включая Severstal Ventures, венчурный фонд МТС, Softline Venture Partners, Kirov Group Ventures).
Что происходит во внутренних инновационных/технологических контурах российских корпораций? Об этом официальная российская статистика умалчивает; понятно только, что в последние годы идет заметное перераспределение инновационных бюджетов в пользу закупки оборудования и ПО и в ущерб всему остальному, включая исследования и разработки.
Структура затрат на инновационную деятельность (%) по российской экономике
При этом с «внешним» контуром инновационных экосистем все более очевидно.
Взаимодействуя со стартапами, российские компании действуют в той же логике, что и зарубежные: по имеющейся статистике, в условиях неопределенности в России, как и за рубежом, стабильно снижается количество сделок с участием корпораций (при этом, по данным MTS StartUp Hub, в 2023 году из 13 «корпоративных» венчурных сделок была раскрыта информация о суммах только по трем; кроме того, в последние два года российские компании начали более активно использовать другие механизмы: прямые инвестиции, сделки с активами и пр.).
И это, пожалуй, единственное сходство между российскими и зарубежными компаниями; дальше начинаются отличия.
Взаимодействуя со стартапами, российские компании действуют в той же логике, что и зарубежные: по имеющейся статистике, в условиях неопределенности в России, как и за рубежом, стабильно снижается количество сделок с участием корпораций (при этом, по данным MTS StartUp Hub, в 2023 году из 13 «корпоративных» венчурных сделок была раскрыта информация о суммах только по трем; кроме того, в последние два года российские компании начали более активно использовать другие механизмы: прямые инвестиции, сделки с активами и пр.).
И это, пожалуй, единственное сходство между российскими и зарубежными компаниями; дальше начинаются отличия.
Структура венчурных сделок по типу инвесторов, % от количества сделок
Во-первых, не слишком заметна трансформация корпоративных венчурных фондов: в отличие от зарубежных коллег, активно вкладывающихся в стартапы на допосевной и посевной стадиях, фонды российских компаний по-прежнему предпочитают раунды А+ (по данным Агентства инноваций г. Москвы, с «допосевными» стартапами не работает ни один корпоративный фонд, с «посевными» — 14 из активных 20, с A+, в том или ином виде, практически все).
Во-вторых, крайне мало распространена практика корпоративных стартап-студий: самая известная пока — DeepTech Studio Сбербанка.
Во-вторых, крайне мало распространена практика корпоративных стартап-студий: самая известная пока — DeepTech Studio Сбербанка.
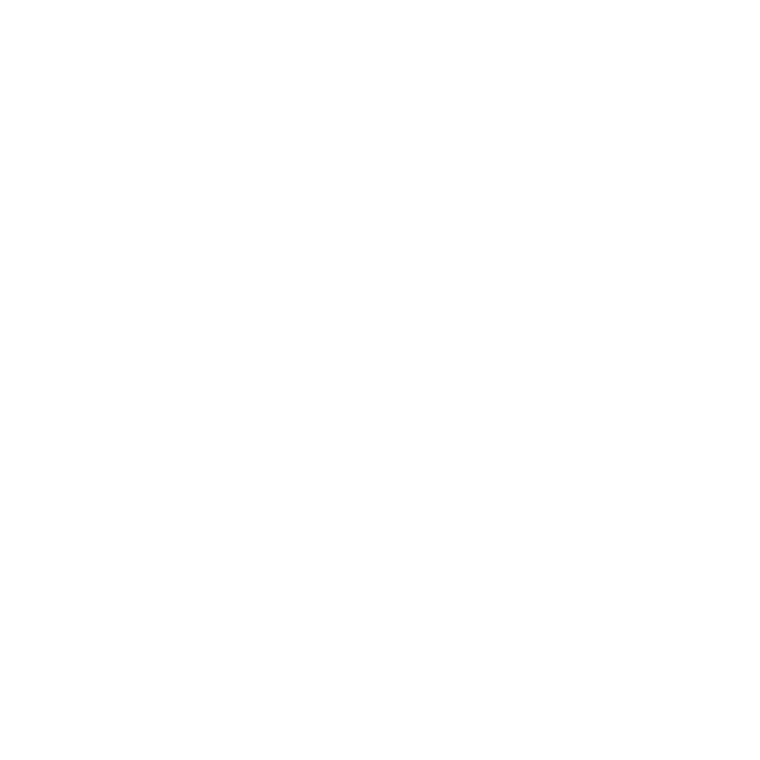
Но все это было бы ничего, если бы ситуация с корпоративным венчуром не отражала симптомы куда более общей проблемы, имеющей отношение не столько к инновационным экосистемам, сколько к бизнес-моделям и корпоративным стратегиям: в России крайне мало компаний, хоть высокотехнологичных, хоть не очень, ориентированных на продукты — и перестроивших свои бизнес-процессы под product development.
(Исключения, конечно же, есть: уже упомянутый Сбербанк, Яндекс, «цифровые» подразделения ГК «Росатом» и пр.; но на общем фоне даже они теряются.)
Более того, в последние пять лет российские компании все меньше вкладываются в инжиниринг и дизайн (то есть в нормальные системы разработки продуктов). Если в 2017 году в инжиниринг инвестировала, грубо говоря, каждая шестая компания, то в 2022‑м — уже только каждая десятая; с дизайном дело обстоит еще хуже: в 2022 году он интересовал только 2,9 % компаний. Судя по официальной статистике, все «продуктовые» деньги ушли на приобретение оборудования и разработку/покупку программного обеспечения.
Понятно, что по-другому быть не могло: перспективы российских компаний на глобальных рынках сейчас очень сомнительны (за традиционными исключениями в виде углеводородов, ВПК, атомной энергетики и сельскохозяйственной продукции), а российскому рынку нужны не инновационные, конкурентоспособные на мировом уровне продукты, а что-то, хотя бы отдаленно напоминающее общемировой мейнстрим, если не по уровню качества, то по функционалу.
(Исключения, конечно же, есть: уже упомянутый Сбербанк, Яндекс, «цифровые» подразделения ГК «Росатом» и пр.; но на общем фоне даже они теряются.)
Более того, в последние пять лет российские компании все меньше вкладываются в инжиниринг и дизайн (то есть в нормальные системы разработки продуктов). Если в 2017 году в инжиниринг инвестировала, грубо говоря, каждая шестая компания, то в 2022‑м — уже только каждая десятая; с дизайном дело обстоит еще хуже: в 2022 году он интересовал только 2,9 % компаний. Судя по официальной статистике, все «продуктовые» деньги ушли на приобретение оборудования и разработку/покупку программного обеспечения.
Понятно, что по-другому быть не могло: перспективы российских компаний на глобальных рынках сейчас очень сомнительны (за традиционными исключениями в виде углеводородов, ВПК, атомной энергетики и сельскохозяйственной продукции), а российскому рынку нужны не инновационные, конкурентоспособные на мировом уровне продукты, а что-то, хотя бы отдаленно напоминающее общемировой мейнстрим, если не по уровню качества, то по функционалу.
Доля предприятий, инвестировавших в инжиниринг и/или дизайн (в общем количестве компаний, ведущих инновационную деятельность)
Последствия налицо: в последние семь лет падает доля продаж инновационных товаров и услуг как на внутреннем рынке (с 8,2 % в 2017 году до 5,3 % в 2022-м), так и на внешнем (9,4 % и 4,2 % соответственно); кроме того, основной акцент компании [вынужденно] делают на импортозамещении: новые для мирового рынка продукты в 2022 году дали всего 2,2 % продаж инновационных товаров/услуг, хотя еще в 2019‑м их было почти в три раза больше (6,3 %).
Но беда, конечно, не в крене в сторону импортозамещения, а в том, что для нормального импортозамещения продуктовый подход нужен не меньше, чем для всего остального. Даже если оставить за скобками тот грустный факт, что мейнстримные для рынка «зарубежные аналоги» в абсолютном большинстве сфер и индустрий создавались глобальными корпорациями за очень, очень большие деньги и с лучшими в мире командами.
(Отсутствие привычки к продуктовому подходу сказывается даже в областях и направлениях, для которых product development — требование по умолчанию; самый показательный пример — российские облачные сервисы, качество которых таково, что компании вынуждены покупать решения сразу 5–6 вендоров и устраивать невообразимые танцы с бубнами, чтобы худо-бедно получить функционал, который им по умолчанию давали условные Amazon или Microsoft.)
Похожим образом обстоят дела с микроэлектроникой, с той лишь разницей, что российские производители откровенно не дотягивают до уровня китайских: компоненты с топологией до 90 нм — это лучше, чем ничего, но мировой стандарт — это 10 нм; и китайские коллеги, в частности Montage Technology, в этом году официально вышедшая на российский рынок, активно его используют.
Каким образом в этих условиях будут достигаться национальные цели по увеличению доли «высокотехнологичных продуктов, товаров и услуг отечественного производства, созданных на основе собственных линий разработки», не очень ясно: судя по знакам на земле и небе, продуктового перехода, который обеспечил бы создание «глобально конкурентоспособных отечественных высокотехнологичных продуктов», в ближайшие годы в России ждать не приходится.
Что еще хуже, это [потенциально] может поставить под угрозу технологический суверенитет. Просто потому, что техсуверенитет — это не «наука», не «разработки» и не «технологии»; это продукты на их основе, а) хотя бы отдаленно соответствующие требованиям рынка, б) в идеале способные конкурировать с глобальными мейнстримными решениями.
И тут, к сожалению, никакие инновационные экосистемы не спасут.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Но беда, конечно, не в крене в сторону импортозамещения, а в том, что для нормального импортозамещения продуктовый подход нужен не меньше, чем для всего остального. Даже если оставить за скобками тот грустный факт, что мейнстримные для рынка «зарубежные аналоги» в абсолютном большинстве сфер и индустрий создавались глобальными корпорациями за очень, очень большие деньги и с лучшими в мире командами.
(Отсутствие привычки к продуктовому подходу сказывается даже в областях и направлениях, для которых product development — требование по умолчанию; самый показательный пример — российские облачные сервисы, качество которых таково, что компании вынуждены покупать решения сразу 5–6 вендоров и устраивать невообразимые танцы с бубнами, чтобы худо-бедно получить функционал, который им по умолчанию давали условные Amazon или Microsoft.)
Похожим образом обстоят дела с микроэлектроникой, с той лишь разницей, что российские производители откровенно не дотягивают до уровня китайских: компоненты с топологией до 90 нм — это лучше, чем ничего, но мировой стандарт — это 10 нм; и китайские коллеги, в частности Montage Technology, в этом году официально вышедшая на российский рынок, активно его используют.
Каким образом в этих условиях будут достигаться национальные цели по увеличению доли «высокотехнологичных продуктов, товаров и услуг отечественного производства, созданных на основе собственных линий разработки», не очень ясно: судя по знакам на земле и небе, продуктового перехода, который обеспечил бы создание «глобально конкурентоспособных отечественных высокотехнологичных продуктов», в ближайшие годы в России ждать не приходится.
Что еще хуже, это [потенциально] может поставить под угрозу технологический суверенитет. Просто потому, что техсуверенитет — это не «наука», не «разработки» и не «технологии»; это продукты на их основе, а) хотя бы отдаленно соответствующие требованиям рынка, б) в идеале способные конкурировать с глобальными мейнстримными решениями.
И тут, к сожалению, никакие инновационные экосистемы не спасут.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ